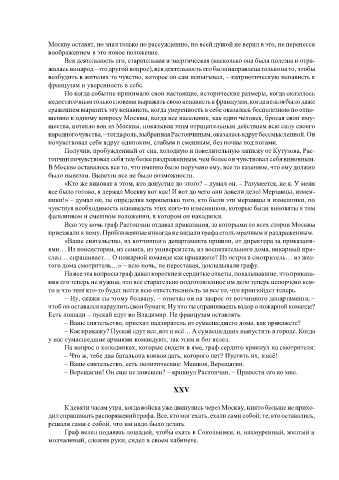Page 196 - Война и мир 3 том
P. 196
Москву оставят, но знал только по рассуждению, но всей душой не верил в это, не перенесся
воображением в это новое положение.
Вся деятельность его, старательная и энергическая (насколько она была полезна и отра-
жалась на народ – это другой вопрос), вся деятельность его была направлена только на то, чтобы
возбудить в жителях то чувство, которое он сам испытывал, – патриотическую ненависть к
французам и уверенность в себе.
Но когда событие принимало свои настоящие, исторические размеры, когда оказалось
недостаточным только словами выражать свою ненависть к французам, когда нельзя было даже
сражением выразить эту ненависть, когда уверенность в себе оказалась бесполезною по отно-
шению к одному вопросу Москвы, когда все население, как один человек, бросая свои иму-
щества, потекло вон из Москвы, показывая этим отрицательным действием всю силу своего
народного чувства, – тогда роль, выбранная Растопчиным, оказалась вдруг бессмысленной. Он
почувствовал себя вдруг одиноким, слабым и смешным, без почвы под ногами.
Получив, пробужденный от сна, холодную и повелительную записку от Кутузова, Рас-
топчин почувствовал себя тем более раздраженным, чем более он чувствовал себя виновным.
В Москве оставалось все то, что именно было поручено ему, все то казенное, что ему должно
было вывезти. Вывезти все не было возможности.
«Кто же виноват в этом, кто допустил до этого? – думал он. – Разумеется, не я. У меня
все было готово, я держал Москву вот как! И вот до чего они довели дело! Мерзавцы, измен-
ники!» – думал он, не определяя хорошенько того, кто были эти мерзавцы и изменники, но
чувствуя необходимость ненавидеть этих кого-то изменников, которые были виноваты в том
фальшивом и смешном положении, в котором он находился.
Всю эту ночь граф Растопчин отдавал приказания, за которыми со всех сторон Москвы
приезжали к нему. Приближенные никогда не видали графа столь мрачным и раздраженным.
«Ваше сиятельство, из вотчинного департамента пришли, от директора за приказани-
ями… Из консистории, из сената, из университета, из воспитательного дома, викарный при-
слал… спрашивает… О пожарной команде как прикажете? Из острога смотритель… из жел-
того дома смотритель…» – всю ночь, не переставая, докладывали графу.
На все эта вопросы граф давал короткие и сердитые ответы, показывавшие, что приказа-
ния его теперь не нужны, что все старательно подготовленное им дело теперь испорчено кем-
то и что этот кто-то будет нести всю ответственность за все то, что произойдет теперь.
– Ну, скажи ты этому болвану, – отвечал он на запрос от вотчинного департамента, –
чтоб он оставался караулить свои бумаги. Ну что ты спрашиваешь вздор о пожарной команде?
Есть лошади – пускай едут во Владимир. Не французам оставлять.
– Ваше сиятельство, приехал надзиратель из сумасшедшего дома, как прикажете?
– Как прикажу? Пускай едут все, вот и всё… А сумасшедших выпустить в городе. Когда
у нас сумасшедшие армиями командуют, так этим и бог велел.
На вопрос о колодниках, которые сидели в яме, граф сердито крикнул на смотрителя:
– Что ж, тебе два батальона конвоя дать, которого нет? Пустить их, и всё!
– Ваше сиятельство, есть политические: Мешков, Верещагин.
– Верещагин! Он еще не повешен? – крикнул Растопчин. – Привести его ко мне.
XXV
К девяти часам утра, когда войска уже двинулись через Москву, никто больше не прихо-
дил спрашивать распоряжений графа. Все, кто мог ехать, ехали сами собой; те, кто оставались,
решали сами с собой, что им надо было делать.
Граф велел подавать лошадей, чтобы ехать в Сокольники, и, нахмуренный, желтый и
молчаливый, сложив руки, сидел в своем кабинете.