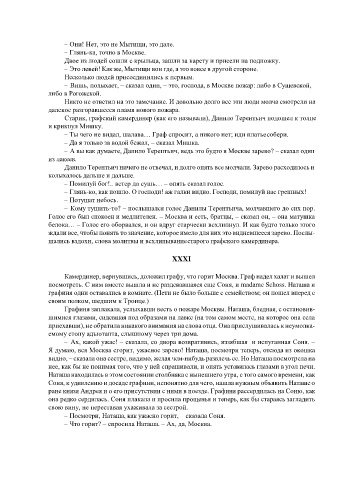Page 216 - Война и мир 3 том
P. 216
– Они! Нет, это не Мытищи, это дале.
– Глянь-ка, точно в Москве.
Двое из людей сошли с крыльца, зашли за карету и присели на подножку.
– Это левей! Как же, Мытищи вон где, а это вовсе в другой стороне.
Несколько людей присоединились к первым.
– Вишь, полыхает, – сказал один, – это, господа, в Москве пожар: либо в Сущевской,
либо в Рогожской.
Никто не ответил на это замечание. И довольно долго все эти люди молча смотрели на
далекое разгоравшееся пламя нового пожара.
Старик, графский камердинер (как его называли), Данило Терентьич подошел к толпе
и крикнул Мишку.
– Ты чего не видал, шалава… Граф спросит, а никого нет; иди платье собери.
– Да я только за водой бежал, – сказал Мишка.
– А вы как думаете, Данило Терентьич, ведь это будто в Москве зарево? – сказал один
из лакеев.
Данило Терентьич ничего не отвечал, и долго опять все молчали. Зарево расходилось и
колыхалось дальше и дальше.
– Помилуй бог!.. ветер да сушь… – опять сказал голос.
– Глянь-ко, как пошло. О господи! аж галки видно. Господи, помилуй нас грешных!
– Потушат небось.
– Кому тушить-то? – послышался голос Данилы Терентьича, молчавшего до сих пор.
Голос его был спокоен и медлителен. – Москва и есть, братцы, – сказал он, – она матушка
белока… – Голос его оборвался, и он вдруг старчески всхлипнул. И как будто только этого
ждали все, чтобы понять то значение, которое имело для них это видневшееся зарево. Послы-
шались вздохи, слова молитвы и всхлипывание старого графского камердинера.
XXXI
Камердинер, вернувшись, доложил графу, что горит Москва. Граф надел халат и вышел
посмотреть. С ним вместе вышла и не раздевавшаяся еще Соня, и madame Schoss. Наташа и
графиня одни оставались в комнате. (Пети не было больше с семейством; он пошел вперед с
своим полком, шедшим к Троице.)
Графиня заплакала, услыхавши весть о пожаре Москвы. Наташа, бледная, с остановив-
шимися глазами, сидевшая под образами на лавке (на том самом месте, на которое она села
приехавши), не обратила никакого внимания на слова отца. Она прислушивалась к неумолка-
емому стону адъютанта, слышному через три дома.
– Ах, какой ужас! – сказала, со двора возвративись, иззябшая и испуганная Соня. –
Я думаю, вся Москва сгорит, ужасное зарево! Наташа, посмотри теперь, отсюда из окошка
видно, – сказала она сестре, видимо, желая чем-нибудь развлечь ее. Но Наташа посмотрела на
нее, как бы не понимая того, что у ней спрашивали, и опять уставилась глазами в угол печи.
Наташа находилась в этом состоянии столбняка с нынешнего утра, с того самого времени, как
Соня, к удивлению и досаде графини, непонятно для чего, нашла нужным объявить Наташе о
ране князя Андрея и о его присутствии с ними в поезде. Графиня рассердилась на Соню, как
она редко сердилась. Соня плакала и просила прощенья и теперь, как бы стараясь загладить
свою вину, не переставая ухаживала за сестрой.
– Посмотри, Наташа, как ужасно горит, – сказала Соня.
– Что горит? – спросила Наташа. – Ах, да, Москва.