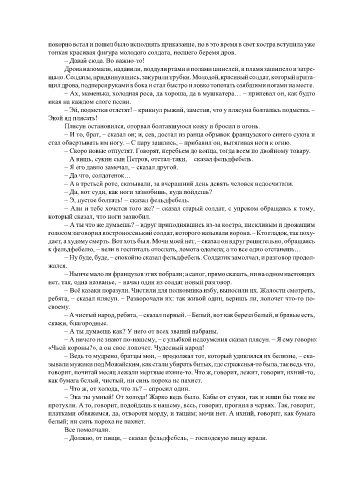Page 112 - Война и мир 4 том
P. 112
покорно встал и пошел было исполнять приказание, но в это время в свет костра вступила уже
тонкая красивая фигура молодого солдата, несшего беремя дров.
– Давай сюда. Во важно-то!
Дрова наломали, надавили, поддули ртами и полами шинелей, и пламя зашипело и затре-
щало. Солдаты, придвинувшись, закурили трубки. Молодой, красивый солдат, который прита-
щил дрова, подперся руками в бока и стал быстро и ловко топотать озябшими ногами на месте.
– Ах, маменька, холодная роса, да хороша, да в мушкатера… – припевал он, как будто
икая на каждом слоге песни.
– Эй, подметки отлетят! – крикнул рыжий, заметив, что у плясуна болталась подметка. –
Экой яд плясать!
Плясун остановился, оторвал болтавшуюся кожу и бросил в огонь.
– И то, брат, – сказал он; и, сев, достал из ранца обрывок французского синего сукна и
стал обвертывать им ногу. – С пару зашлись, – прибавил он, вытягивая ноги к огню.
– Скоро новые отпустят. Говорят, перебьем до копца, тогда всем по двойному товару.
– А вишь, сукин сын Петров, отстал-таки, – сказал фельдфебель.
– Я его давно замечал, – сказал другой.
– Да что, солдатенок…
– А в третьей роте, сказывали, за вчерашний день девять человек недосчитали.
– Да, вот суди, как ноги зазнобишь, куда пойдешь?
– Э, пустое болтать! – сказал фельдфебель.
– Али и тебе хочется того же? – сказал старый солдат, с упреком обращаясь к тому,
который сказал, что ноги зазнобил.
– А ты что же думаешь? – вдруг приподнявшись из-за костра, пискливым и дрожащим
голосом заговорил востроносенький солдат, которого называли ворона. – Кто гладок, так поху-
дает, а худому смерть. Вот хоть бы я. Мочи моей нет, – сказал он вдруг решительно, обращаясь
к фельдфебелю, – вели в госпиталь отослать, ломота одолела; а то все одно отстанешь…
– Ну буде, буде, – спокойно сказал фельдфебель. Солдатик замолчал, и разговор продол-
жался.
– Нынче мало ли французов этих побрали; а сапог, прямо сказать, ни на одном настоящих
нет, так, одна названье, – начал один из солдат новый разговор.
– Всё казаки поразули. Чистили для полковника избу, выносили их. Жалости смотреть,
ребята, – сказал плясун. – Разворочали их: так живой один, веришь ли, лопочет что-то по-
своему.
– А чистый народ, ребята, – сказал первый. – Белый, вот как береза белый, и бравые есть,
скажи, благородные.
– А ты думаешь как? У него от всех званий набраны.
– А ничего не знают по-нашему, – с улыбкой недоумения сказал плясун. – Я ему говорю:
«Чьей короны?», а он свое лопочет. Чудесный народ!
– Ведь то мудрено, братцы мои, – продолжал тот, который удивлялся их белизне, – ска-
зывали мужики под Можайским, как стали убирать битых, где страженья-то была, так ведь что,
говорит, почитай месяц лежали мертвые ихние-то. Что ж, говорит, лежит, говорит, ихний-то,
как бумага белый, чистый, ни синь пороха не пахнет.
– Что ж, от холода, что ль? – спросил один.
– Эка ты умный! От холода! Жарко ведь было. Кабы от стужи, так и наши бы тоже не
протухли. А то, говорит, подойдешь к нашему, весь, говорит, прогнил в червях. Так, говорит,
платками обвяжемся, да, отворотя морду, и тащим; мочи нет. А ихний, говорит, как бумага
белый; ни синь пороха не пахнет.
Все помолчали.
– Должно, от пищи, – сказал фельдфебель, – господскую пищу жрали.