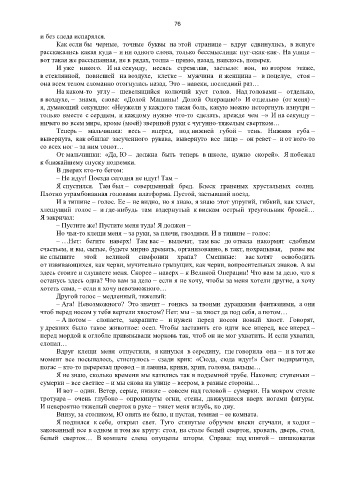Page 76 - Мы
P. 76
76
и без следа испарялся.
Как если бы черные, точные буквы на этой странице – вдруг сдвинулись, в испуге
расскакались какая куда – и ни одного слова, только бессмыслица: пуг-скак-как-. На улице –
вот такая же рассыпанная, не в рядах, толпа – прямо, назад, наискось, поперек.
И уже никого. И на секунду, несясь стремглав, застыло: вон, во втором этаже,
в стеклянной, повисшей на воздухе, клетке – мужчина и женщина – в поцелуе, стоя –
она всем телом сломанно отогнулась назад. Это – навеки, последний раз…
На каком-то углу – шевелящийся колючий куст голов. Над головами – отдельно,
в воздухе, – знамя, слова: «Долой Машины! Долой Операцию!» И отдельно (от меня) –
я, думающий секундно: «Неужели у каждого такая боль, какую можно исторгнуть изнутри –
только вместе с сердцем, и каждому нужно что-то сделать, прежде чем –» И на секунду –
ничего во всем мире, кроме (моей) звериной руки с чугунно-тяжелым свертком…
Теперь – мальчишка: весь – вперед, под нижней губой – тень. Нижняя губа –
вывернута, как обшлаг засученного рукава, вывернуто все лицо – он ревет – и от кого-то
со всех ног – за ним топот…
От мальчишки: «Да, Ю – должна быть теперь в школе, нужно скорей». Я побежал
к ближайшему спуску подземки.
В дверях кто-то бегом:
– Не идут! Поезда сегодня не идут! Там –
Я спустился. Там был – совершенный бред. Блеск граненых хрустальных солнц.
Плотно утрамбованная головами платформа. Пустой, застывший поезд.
И в тишине – голос. Ее – не видно, но я знаю, я знаю этот упругий, гибкий, как хлыст,
хлещущий голос – и где-нибудь там вздернутый к вискам острый треугольник бровей…
Я закричал:
– Пустите же! Пустите меня туда! Я должен –
Но чьи-то клещи меня – за руки, за плечи, гвоздями. И в тишине – голос:
– …Нет: бегите наверх! Там вас – вылечат, там вас до отвала накормят сдобным
счастьем, и вы, сытые, будете мирно дремать, организованно, в такт, похрапывая, – разве вы
не слышите этой великой симфонии храпа? Смешные: вас хотят освободить
от извивающихся, как черви, мучительно грызущих, как черви, вопросительных знаков. А вы
здесь стоите и слушаете меня. Скорее – наверх – к Великой Операции! Что вам за дело, что я
останусь здесь одна? Что вам за дело – если я не хочу, чтобы за меня хотели другие, а хочу
хотеть сама, – если я хочу невозможного…
Другой голос – медленный, тяжелый:
– Ага! Невозможного? Это значит – гонись за твоими дурацкими фантазиями, а они
чтоб перед носом у тебя вертели хвостом? Нет: мы – за хвост да под себя, а потом…
– А потом – слопаете, захрапите – и нужен перед носом новый хвост. Говорят,
у древних было такое животное: осел. Чтобы заставить его идти все вперед, все вперед –
перед мордой к оглобле привязывали морковь так, чтоб он не мог ухватить. И если ухватил,
слопал…
Вдруг клещи меня отпустили, я кинулся в середину, где говорила она – и в тот же
момент все посыпалось, стиснулось – сзади крик: «Сюда, сюда идут!» Свет подпрыгнул,
погас – кто-то перерезал провод – и лавина, крики, хрип, головы, пальцы…
Я не знаю, сколько времени мы катились так в подземной трубе. Наконец: ступеньки –
сумерки – все светлее – и мы снова на улице – веером, в разные стороны…
И вот – один. Ветер, серые, низкие – совсем над головой – сумерки. На мокром стекле
тротуара – очень глубоко – опрокинуты огни, стены, движущиеся вверх ногами фигуры.
И невероятно тяжелый сверток в руке – тянет меня вглубь, ко дну.
Внизу, за столиком, Ю опять не было, и пустая, темная – ее комната.
Я поднялся к себе, открыл свет. Туго стянутые обручем виски стучали, я ходил –
закованный все в одном и том же кругу: стол, на столе белый сверток, кровать, дверь, стол,
белый сверток… В комнате слева опущены шторы. Справа: над книгой – шишковатая