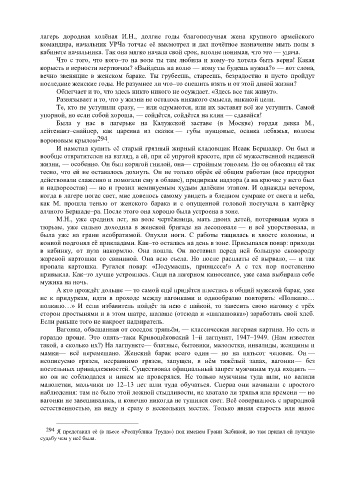Page 401 - Архипелаг ГУЛаг
P. 401
лагерь дородная холёная И.Н., долгие годы благополучная жена крупного армейского
командира, начальник УРЧа тотчас её высмотрел и дал почётное назначение мыть полы в
кабинете начальника. Так она мягко начала свой срок, вполне понимая, что это — удача.
Что с того, что кого–то на воле ты там любила и кому–то хотела быть верна! Какая
корысть в верности мертвячки? «Выйдешь на волю — кому ты будешь нужна?» — вот слова,
вечно звенящие в женском бараке. Ты грубеешь, стареешь, безрадостно и пусто пройдут
последние женские годы. Не разумнее ли что–то спешить взять и от этой дикой жизни?
Облегчает и то, что здесь никто никого не осуждает. «Здесь все так живут».
Развязывает и то, что у жизни не осталось никакого смысла, никакой цели.
Те, кто не уступили сразу, — или одумаются, или их заставят всё же уступить. Самой
упорной, но если собой хороша, — сойдётся, сойдётся на клин — сдавайся!
Была у нас в лагерьке на Калужской заставе (в Москве) гордая девка М.,
лейтенант–снайпер, как царевна из сказки — губы пунцовые, осанка лебяжья, волосы
вороновым крылом 294 .
И наметил купить её старый грязный жирный кладовщик Исаак Бершадер. Он был и
вообще отвратителен на взгляд, а ей, при её упругой красоте, при её мужественной недавней
жизни, — особенно. Он был корягой гнилой, она— стройным тополем. Но он обложил её так
тесно, что ей не оставалось дохнуть. Он не только обрёк её общим работам (все придурки
действовали слаженно и помогали ему в облаве), придиркам надзора (а на крючке у него был
и надзорсостав) — но и грозил неминуемым худым далёким этапом. И однажды вечером,
когда в лагере погас свет, мне довелось самому увидеть в бледном сумраке от снега и неба,
как М. прошла тенью от женского барака и с опущенной головой постучала в каптёрку
алчного Бершаде–ра. После этого она хорошо была устроена в зоне.
М.Н., уже средних лет, на воле чертёжница, мать двоих детей, потерявшая мужа в
тюрьме, уже сильно доходила в женской бригаде на лесоповале — и всё упорствовала, и
была уже на грани необратимой. Опухли ноги. С работы тащилась в хвосте колонны, и
конвой подгонял её прикладами. Как–то осталась на день в зоне. Присыпался повар: приходи
в кабинку, от пуза накормлю. Она пошла. Он поставил перед ней большую сковороду
жареной картошки со свининой. Она всю съела. Но после расплаты её вырвало, — и так
пропала картошка. Ругался повар: «Подумаешь, принцесса!» А с тех пор постепенно
привыкла. Как–то лучше устроилась. Сидя на лагерном киносеансе, уже сама выбирала себе
мужика на ночь.
А кто прождёт дольше — то самой ещё придётся плестись в общий мужской барак, уже
не к придуркам, идти в проходе между вагонками и однообразно повторять: «Полкило…
полкило…» И если избавитель пойдёт за нею с пайкой, то завесить свою вагонку с трёх
сторон простынями и в этом шатре, шалаше (отсюда и «шалашовка») заработать свой хлеб.
Если раньше того не накроет надзиратель.
Вагонка, обвешанная от соседок тряпьём, — классическая лагерная картина. Но есть и
гораздо проще. Это опять–таки Кривощёковский 1–й лагпункт, 1947–1949. (Нам известен
такой, а сколько их?) На лагпункте— блатные, бытовики, малолетки, инвалиды, женщины и
мамки— всё перемешано. Женский барак всего один — но на пятьсот человек. Он —
неописуемо грязен, несравнимо грязен, запущен, в нём тяжёлый запах, вагонки— без
постельных принадлежностей. Существовал официальный запрет мужчинам туда входить —
но он не соблюдался и никем не проверялся. Не только мужчины туда шли, но валили
малолетки, мальчики по 12–13 лет шли туда обучаться. Сперва они начинали с простого
наблюдения: там не было этой ложной стыдливости, не хватало ли тряпья или времени — но
вагонки не завешивались, и конечно никогда не тушился свет. Всё совершалось с природной
естественностью, на виду и сразу в нескольких местах. Только явная старость или явное
294 Я представил её (в пьесе «Республика Труда») под именем Грани Зыбиной, но там придал ей лучшую
судьбу чем у неё была.