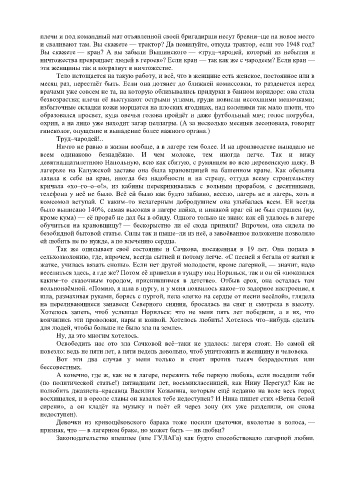Page 403 - Архипелаг ГУЛаг
P. 403
плечи и под командный мат отъявленной своей бригадирши несут бревни–ще на новое место
и сваливают там. Вы скажете — трактор? Да помилуйте, откуда трактор, если это 1948 год?
Вы скажете — кран? А вы забыли Вышинского — «труд–чародей, который из небытия и
ничтожества превращает людей в героев»? Если кран — так как же с чародеем? Если кран —
эти женщины так и погрязнут в ничтожестве.
Тело истощается на такую работу, и всё, что в женщине есть женское, постоянное или в
месяц раз, перестаёт быть. Если она дотянет до ближней комиссовки, то разденется перед
врачами уже совсем не та, на которую облизывались придурки в банном коридоре: она стала
безвозрастна; плечи её выступают острыми углами, груди повисли иссохшими мешочками;
избыточные складки кожи морщатся на плоских ягодицах, над коленями так мало плоти, что
образовался просвет, куда овечья голова пройдёт и даже футбольный мяч; голос погрубел,
охрип, а на лицо уже находит загар пеллагры. (А за несколько месяцев лесоповала, говорит
гинеколог, опущение и выпадение более важного органа.)
Труд–чародей!..
Ничто не равно в жизни вообще, а в лагере тем более. И на производстве выпадало не
всем одинаково безнадёжно. И чем моложе, тем иногда легче. Так и вижу
девятнадцатилетнюю Напольную, всю как сбитую, с румянцем во всю деревенскую щеку. В
лагерьке на Калужской заставе она была крановщицей на башенном кране. Как обезьяна
лазила к себе на кран, иногда без надобности и на стрелу, оттуда всему строительству
кричала «хо–го–о–о!», из кабины перекрикивалась с вольным прорабом, с десятниками,
телефона у неё не было. Всё ей было как будто забавно, весело, лагерь не в лагерь, хоть в
комсомол вступай. С каким–то нелагерным добродушием она улыбалась всем. Ей всегда
было выписано 140%, самая высокая в лагере пайка, и никакой враг ей не был страшен (ну,
кроме кума) — её прораб не дал бы в обиду. Одного только не знаю: как ей удалось в лагере
обучиться на крановщицу? — бескорыстно ли её сюда приняли? Впрочем, она сидела по
безобидной бытовой статье. Силы так и пыше–ли из неё, а завоёванное положение позволяло
ей любить не по нужде, а по влечению сердца.
Так же описывает своё состояние и Сачкова, посаженная в 19 лет. Она попала в
сельхозколонию, где, впрочем, всегда сытней и потому легче. «С песней я бегала от жатки к
жатке, училась вязать снопы». Если нет другой молодости, кроме лагерной, — значит, надо
веселиться здесь, а где же? Потом её привезли в тундру под Норильск, так и он ей «показался
каким–то сказочным городом, приснившимся в детстве». Отбыв срок, она осталась там
вольнонаёмной. «Помню, я шла в пургу, и у меня появилось какое–то задорное настроение, я
шла, размахивая руками, борясь с пургой, пела «легко на сердце от песни весёлой», глядела
на переливающиеся занавеси Северного сияния, бросалась на снег и смотрела в высоту.
Хотелось запеть, чтоб услышал Норильск: что не меня пять лет победили, а я их, что
кончились эти проволоки, нары и конвой. Хотелось любить! Хотелось что–нибудь сделать
для людей, чтобы больше не было зла на земле».
Ну, да это многим хотелось.
Освободить нас ото зла Сачковой всё–таки не удалось: лагеря стоят. Но самой ей
повезло: ведь не пяти лет, а пяти недель довольно, чтоб уничтожить и женщину и человека.
Вот эти два случая у меня только и стоят против тысяч безрадостных или
бессовестных.
А конечно, где ж, как не в лагере, пережить тебе первую любовь, если посадили тебя
(по политической статье!) пятнадцати лет, восьмиклассницей, как Нину Перегуд? Как не
полюбить джазиста–красавца Василия Козьмина, которым ещё недавно на воле весь город
восхищался, и в ореоле славы он казался тебе недоступен? И Нина пишет стих «Ветка белой
сирени», а он кладёт на музыку и поёт ей через зону (их уже разделили, он снова
недоступен).
Девочки из кривощёковского барака тоже носили цветочки, вколотые в волоса, —
признак, что — в лагерном браке, но может быть — ив любви?
Законодательство внешнее (вне ГУЛАГа) как будто способствовало лагерной любви.