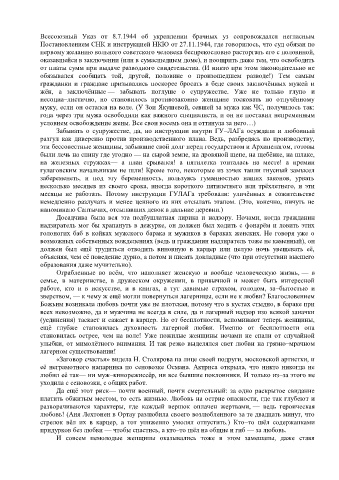Page 404 - Архипелаг ГУЛаг
P. 404
Всесоюзный Указ от 8.7.1944 об укреплении брачных уз сопровождался негласным
Постановлением СНК и инструкцией НКЮ от 27.11.1944, где говорилось, что суд обязан по
первому желанию вольного советского человека беспрекословно расторгать его с половиной,
оказавшейся в заключении (или в сумасшедшем доме), и поощрить даже тем, что освободить
от платы сумм при выдаче разводного свидетельства. (И никто при этом законодательно не
обязывался сообщать той, другой, половине о произошедшем разводе!) Тем самым
гражданки и граждане призывались поскорее бросать в беде своих заключённых мужей и
жён, а заключённые — забывать поглуше о супружестве. Уже не только глупо и
несоциа–листично, но становилось противозаконно женщине тосковать по отлучённому
мужу, если он остался на воле. (У Зои Якушевой, севшей за мужа как ЧС, получилось так:
года через три мужа освободили как важного специалиста, и он не поставил непременным
условием освобождение жены. Все свои восемь она и оттянула за него…)
Забывать о супружестве, да, но инструкции внутри ГУ–ЛАГа осуждали и любовный
разгул как диверсию против производственного плана. Ведь, разбредясь по производству,
эти бессовестные женщины, забывшие свой долг перед государством и Архипелагом, готовы
были лечь на спину где угодно — на сырой земле, на дровяной щепе, на щебёнке, на шлаке,
на железных стружках— а план срывался! а пятилетка топталась на месте! а премии
гулаговским начальникам не шли! Кроме того, некоторые из зэчек таили гнусный замысел
забеременеть, и под эту беременность, пользуясь гуманностью наших законов, урвать
несколько месяцев из своего срока, иногда короткого пятилетнего или трёхлетнего, и эти
месяцы не работать. Потому инструкции ГУЛАГа требовали: уличённых в сожительстве
немедленно разлучать и менее ценного из них отсылать этапом. (Это, конечно, ничуть не
напоминало Салтычих, отсылавших девок в дальние деревни.)
Досадчива была вся эта подбушлатная лирика и надзору. Ночами, когда гражданин
надзиратель мог бы храпануть в дежурке, он должен был ходить с фонарём и ловить этих
голоногих баб в койках мужского барака и мужиков в бараках женских. Не говоря уже о
возможных собственных вожделениях (ведь и гражданин надзиратель тоже не каменный), он
должен был ещё трудиться отводить виновную в карцер или целую ночь увещевать её,
объясняя, чем её поведение дурно, а потом и писать докладные (что при отсутствии высшего
образования даже мучительно).
Ограбленные во всём, что наполняет женскую и вообще человеческую жизнь, — в
семье, в материнстве, в дружеском окружении, в привычной и может быть интересной
работе, кто и в искусстве, и в книгах, а тут давимые страхом, голодом, за–бытостью и
зверством, — к чему ж ещё могли повернуться лагерницы, если не к любви? Благословением
Божьим возникала любовь почти уже не плотская, потому что в кустах стыдно, в бараке при
всех невозможно, да и мужчина не всегда в силе, да и лагерный надзор изо всякой заначки
(уединения) таскает и сажает в карцер. Но от бесплотности, вспоминают теперь женщины,
ещё глубже становилась духовность лагерной любви. Именно от бесплотности она
становилась острее, чем на воле! Уже пожилые женщины ночами не спали от случайной
улыбки, от мимолётного внимания. И так резко выделялся свет любви на грязно–мрачном
лагерном существовании!
«Заговор счастья» видела Н. Столярова на лице своей подруги, московской артистки, и
её неграмотного напарника по сеновозке Османа. Актриса открыла, что никто никогда не
любил её так— ни муж–кинорежиссёр, ни все бывшие поклонники. И только из–за этого не
уходила с сеновозки, с общих работ.
Да ещё этот риск— почти военный, почти смертельный: за одно раскрытое свидание
платить обжитым местом, то есть жизнью. Любовь на острие опасности, где так глубеют и
разворачиваются характеры, где каждый вершок оплачен жертвами, — ведь героическая
любовь! (Аня Лехтонен в Ортау разлюбила своего возлюбленного за те двадцать минут, что
стрелок вёл их в карцер, а тот униженно умолял отпустить.) Кто–то шёл содержанками
придурков без любви — чтобы спастись, а кто–то шёл на общие и гиб — за любовь.
И совсем немолодые женщины оказывались тоже в этом замешаны, даже ставя