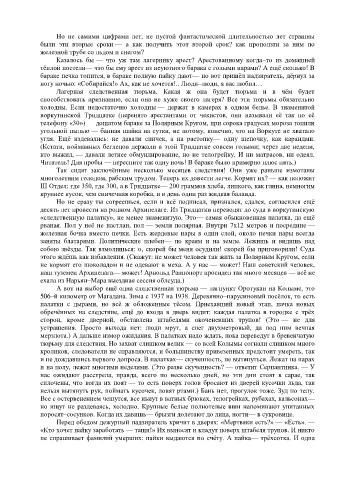Page 472 - Архипелаг ГУЛаг
P. 472
Но не самими цифрами лет, не пустой фантастической длительностью лет страшны
были эти вторые сроки — а как получить этот второй срок? как проползти за ним по
железной трубе со льдом и снегом?
Казалось бы — что уж там лагернику арест? Арестованному когда–то из домашней
тёплой постели— что бы ему арест из неуютного барака с голыми нарами? А ещё сколько! В
бараке печка топится, в бараке полную пайку дают— но вот пришёл надзиратель, дёрнул за
ногу ночью: «Собирайся!» Ах, как не хочется!.. Люди–люди, я вас любил…
Лагерная следственная тюрьма. Какая ж она будет тюрьма и в чём будет
способствовать признанию, если она не хуже своего лагеря? Все эти тюрьмы обязательно
холодны. Если недостаточно холодны — держат в камерах в одном белье. В знаменитой
воркутинской Тридцатке (перенято арестантами от чекистов, они называли её так по её
телефону «30») — дощатом бараке за Полярным Кругом, при сорока градусах мороза топили
угольной пылью — банная шайка на сутки, не потому, конечно, что на Воркуте не хватало
угля. Ещё издевались: не давали спичек, а на растопку— одну щепочку, как карандаш.
(Кстати, пойманных беглецов держали в этой Тридцатке совсем голыми; через две недели,
кто выжил, — давали летнее обмундирование, но не телогрейку. И ни матрасов, ни одеял.
Читатель! Для пробы — переспите так одну ночь! В бараке было примерно плюс пять.)
Так сидят заключённые несколько месяцев следствия! Они уже раньше измотаны
многолетним голодом, рабским трудом. Теперь их довести легче. Кормят их? — как положит
III Отдел: где 350, где 300, а в Тридцатке— 200 граммов хлеба, липкого, как глина, немногим
крупнее кусок, чем спичечная коробка, и в день один раз жидкая баланда.
Но не сразу ты согреешься, если и всё подписал, признался, сдался, согласился ещё
десять лет провести на родном Архипелаге. Из Тридцатки переводят до суда в воркутинскую
«следственную палатку», не менее знаменитую. Это— самая обыкновенная палатка, да ещё
рваная. Пол у неё не настлан, пол — земля полярная. Внутри 7x12 метров и посредине —
железная бочка вместо печки. Есть жердевые нары в один слой, около печки нары всегда
заняты блатарями. Политические плебеи— по краям и на земле. Лежишь и видишь над
собою звёзды. Так взмолишься: о, скорей бы меня осудили! скорей бы приговорили! Суда
этого ждёшь как избавления. (Скажут: не может человек так жить за Полярным Кругом, если
не кормят его шоколадом и не одевают в меха. А у нас — может! Наш советский человек,
наш туземец Архипелага— может! Арнольд Раппопорт просидел так много месяцев — всё не
ехала из Нарьян–Мара выездная сессия облсуда.)
А вот на выбор ещё одна следственная тюрьма — лагпункт Оротукан на Колыме, это
506–й километр от Магадана. Зима с 1937 на 1938. Деревянно–парусиновый посёлок, то есть
палатки с дырами, но всё ж обложенные тёсом. Приехавший новый этап, пачка новых
обречённых на следствие, ещё до входа в дверь видит: каждая палатка в городке с трёх
сторон, кроме дверной, обставлена штабелями окоченевших трупов! (Это — не для
устрашения. Просто выхода нет: люди мрут, а снег двухметровый, да под ним вечная
мерзлота.) А дальше измор ожидания. В палатках надо ждать, пока переведут в бревенчатую
тюрьму для следствия. Но захват слишком велик — со всей Колымы согнали слишком много
кроликов, следователи не справляются, и большинству привезенных предстоит умереть, так
и не дождавшись первого допроса. В палатках— скученность, не вытянуться. Лежат на нарах
и на полу, лежат многими неделями. (Это разве скученность? — ответит Серпантинка. — У
нас ожидают расстрела, правда, всего по несколько дней, но эти дни стоят в сарае, так
сплочены, что когда их поят — то есть поверх голов бросают из дверей кусочки льда, так
нельзя вытянуть рук, поймать кусочек, ловят ртами.) Бань нет, прогулок тоже. Зуд по телу.
Все с остервенением чешутся, все иьиут в ватных брюках, телогрейках, рубахах, кальсонах—
но ищут не раздеваясь, холодно. Крупные белые полнотелые вши напоминают упитанных
поросят–сосунков. Когда их давишь— брызги долетают до лица, ногти— в сукровице.
Перед обедом дежурный надзиратель кричит в дверях: «Мертвяки есть?» — «Есть». —
«Кто хочет пайку заработать — тащи!» Их выносят и кладут поверх штабеля трупов. И никто
не спрашивает фамилий умерших: пайки выдаются по счёту. А пайка— трёхсотка. И одна