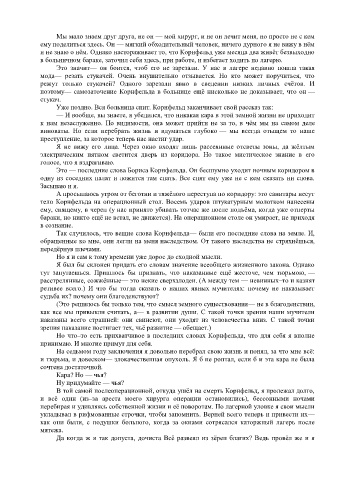Page 579 - Архипелаг ГУЛаг
P. 579
Мы мало знаем друг друга, не он — мой хирург, и не он лечит меня, но просто не с кем
ему поделиться здесь. Он — мягкий обходительный человек, ничего дурного я не вижу в нём
и не знаю о нём. Однако настораживает то, что Корнфельд уже месяца два живёт безвыходно
в больничном бараке, заточил себя здесь, при работе, и избегает ходить по лагерю.
Это значит— он боится, чтоб его не зарезали. У нас в лагере недавно пошла такая
мода— резать стукачей. Очень внушительно отзывается. Но кто может поручиться, что
режут только стукачей? Одного зарезали явно в сведении низких личных счётов. И
поэтому— самозаточение Корнфельда в больнице ещё нисколько не доказывает, что он —
стукач.
Уже поздно. Вся больница спит. Корнфельд заканчивает свой рассказ так:
— И вообще, вы знаете, я убедился, что никакая кара в этой земной жизни не приходит
к нам незаслуженно. По видимости, она может прийти не за то, в чём мы на самом деле
виноваты. Но если перебрать жизнь и вдуматься глубоко — мы всегда отыщем то наше
преступление, за которое теперь нас настиг удар.
Я не вижу его лица. Через окно входят лишь рассеянные отсветы зоны, да жёлтым
электрическим пятном светится дверь из коридора. Но такое мистическое знание в его
голосе, что я вздрагиваю.
Это — последние слова Бориса Корнфельда. Он бесшумно уходит ночным коридором в
одну из соседних палат и ложится там спать. Все спят ему уже не с кем сказать ни слова.
Засыпаю и я.
А просыпаюсь утром от беготни и тяжёлого переступа по коридору: это санитары несут
тело Корнфельда на операционный стол. Восемь ударов штукатурным молотком нанесены
ему, спящему, в череп (у нас принято убивать тотчас же после подъёма, когда уже отперты
бараки, но никто ещё не встал, не движется). На операционном столе он умирает, не приходя
в сознание.
Так случилось, что вещие слова Корнфельда— были его последние слова на земле. И,
обращенные ко мне, они легли на меня наследством. От такого наследства не стряхнёшься,
передёрнув плечами.
Но я и сам к тому времени уже дорос до сходной мысли.
Я был бы склонен придать его словам значение всеобщего жизненного закона. Однако
тут запутаешься. Пришлось бы признать, что наказанные ещё жесточе, чем тюрьмою, —
расстрелянные, сожжённые— это некие сверхзлодеи. (А между тем — невинных–то и казнят
ретивее всего.) И что бы тогда сказать о наших явных мучителях: почему не наказывает
судьба их? почему они благоденствуют?
(Это решилось бы только тем, что смысл земного существования— не в благоденствии,
как все мы привыкли считать, а— в развитии души. С такой точки зрения наши мучители
наказаны всего страшней: они свинеют, они уходят из человечества вниз. С такой точки
зрения наказание постигает тех, чьё развитие — обещает.)
Но что–то есть прихватчивое в последних словах Корнфельда, что для себя я вполне
принимаю. И многие примут для себя.
На седьмом году заключения я довольно перебрал свою жизнь и понял, за что мне всё:
и тюрьма, и довеском— злокачественная опухоль. Я б не роптал, если б и эта кара не была
сочтена достаточной.
Кара? Но — чья?
Ну придумайте — чья?
В той самой послеоперационной, откуда ушёл на смерть Корнфельд, я пролежал долго,
и всё один (из–за ареста моего хирурга операции остановились), бессонными ночами
перебирая и удивляясь собственной жизни и её поворотам. По лагерной уловке я свои мысли
укладывал в рифмованные строчки, чтобы запомнить. Верней всего теперь и привести их—
как они были, с подушки больного, когда за окнами сотрясался каторжный лагерь после
мятежа.
Да когда ж я так допуста, дочиста Всё развеял из зёрен благих? Ведь провёл же и я