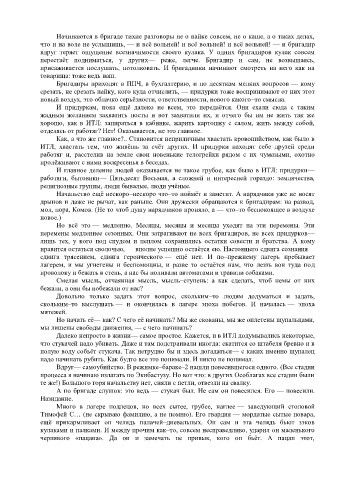Page 719 - Архипелаг ГУЛаг
P. 719
Начинаются в бригаде тихие разговоры не о пайке совсем, не о каше, а о таких делах,
что и на воле не услышишь, — и всё вольней! и всё вольней! и всё вольней! — и бригадир
вдруг теряет ощущение всезначимости своего кулака. У одних бригадиров кулак совсем
перестаёт подниматься, у других— реже, легче. Бригадир и сам, не возвышаясь,
присаживается послушать, потолковать. И бригадники начинают смотреть на него как на
товарища: тоже ведь наш.
Бригадиры приходят в ППЧ, в бухгалтерию, и по десяткам мелких вопросов — кому
срезать, не срезать пайку, кого куда отчислить, — придурки тоже воспринимают от них этот
новый воздух, это облачко серьёзности, ответственности, нового какого–то смысла.
И придуркам, пока ещё далеко не всем, это передаётся. Они ехали сюда с таким
жадным желанием захватить посты и вот захватили их, и отчего бы им не жить так же
хорошо, как в ИТЛ: запираться в кабинке, жарить картошку с салом, жить между собой,
отделясь от работяг? Нет! Оказывается, не это главное.
Как, а что же главное?.. Становится неприличным хвастать кровопийством, как было в
ИТЛ, хвастать тем, что живёшь за счёт других. И придурки находят себе друзей среди
работяг и, расстелив на земле свои новенькие телогрейки рядом с их чумазыми, охотно
пролёживают с ними воскресенья в беседах.
И главное деление людей оказывается не такое грубое, как было в ИТЛ: придурки—
работяги, бытовики— Пятьдесят Восьмая, а сложней и интересней гораздо: землячества,
религиозные группы, люди бывалые, люди учёные.
Начальство ещё нескоро–нескоро что–то поймёт и заметит. А нарядчики уже не носят
дрынов и даже не рычат, как раньше. Они дружески обращаются к бригадирам: на развод,
мол, пора, Комов. (Не то чтоб душу нарядчиков проняло, а — что–то беспокоящее в воздухе
новое.)
Но всё это — медленно. Месяцы, месяцы и месяцы уходят на эти перемены. Эти
перемены медленнее сезонных. Они затрагивают не всех бригадиров, не всех придурков—
лишь тех, у кого под спудом и пеплом сохранились остатки совести и братства. А кому
нравится остаться сволочью, — вполне успешно остаётся ею. Настоящего сдвига сознания—
сдвига трясением, сдвига героического — ещё нет. И по–прежнему лагерь пребывает
лагерем, и мы угнетены и беспомощны, и разве то остаётся нам, что лезть вон туда под
проволоку и бежать в степь, а нас бы поливали автоматами и травили собаками.
Смелая мысль, отчаянная мысль, мысль–ступень: а как сделать, чтоб немы от них
бежали, а они бы побежали от нас?
Довольно только задать этот вопрос, скольким–то людям додуматься и задать,
скольким–то выслушать — и окончилась в лагере эпоха побегов. И началась — эпоха
мятежей.
Но начать её— как? С чего её начинать? Мы же скованы, мы же оплетены щупальцами,
мы лишены свободы движения, — с чего начинать?
Далеко непросто в жизни— самое простое. Кажется, и в ИТЛ додумывались некоторые,
что стукачей надо убивать. Даже и там подстраивали иногда: скатится со штабеля бревно и в
полую воду собьёт стукача. Так нетрудно бы и здесь догадаться— с каких именно щупалец
надо начинать рубить. Как будто все это понимали. И никто не понимал.
Вдруг— самоубийство. В режимке–бараке–2 нашли повесившегося одного. (Все стадии
процесса я начинаю излагать по Экибастузу. Но вот что: в других Особлагах все стадии были
те же!) Большого горя начальству нет, сняли с петли, отвезли на свалку.
А по бригаде слушок: это ведь — стукач был. Не сам он повесился. Его — повесили.
Назидание.
Много в лагере подлецов, но всех сытее, грубее, наглее — заведующий столовой
Тимофей С… (не скрываю фамилию, а не помню). Его гвардия — мордатые сытые повара,
ещё прикармливает он челядь палачей–дневальных. Он сам и эта челядь бьют зэков
кулаками и палками. И между прочим как–то, совсем несправедливо, ударил он маленького
чернявого «пацана». Да он и замечать не привык, кого он бьёт. А пацан этот,