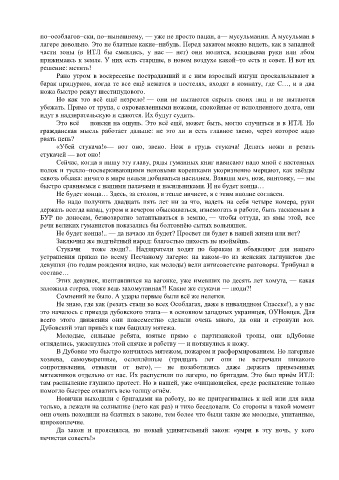Page 720 - Архипелаг ГУЛаг
P. 720
по–особлагов–ски, по–нынешнему, — уже не просто пацан, а— мусульманин. А мусульман в
лагере довольно. Это не блатные какие–нибудь. Перед закатом можно видеть, как в западной
части зоны (в ИТЛ бы смеялись, у нас — нет) они молятся, вскидывая руки или лбом
прижимаясь к земле. У них есть старшие, в новом воздухе какой–то есть и совет. И вот их
решение: мстить!
Рано утром в воскресенье пострадавший и с ним взрослый ингуш проскальзывают в
барак придурков, когда те все ещё нежатся в постелях, входят в комнату, где С…, и в два
ножа быстро режут шестипудового.
Но как это всё ещё незрело! — они не пытаются скрыть своих лиц и не пытаются
убежать. Прямо от трупа, с окровавленными ножами, спокойные от исполненного долга, они
идут в надзирательскую и сдаются. Их будут судить.
Это всё — поиски на ощупь. Это всё ещё, может быть, могло случиться и в ИТЛ. Но
гражданская мысль работает дальше: не это ли и есть главное звено, через которое надо
рвать цепь?
«Убей стукача!»— вот оно, звено. Нож в грудь стукача! Делать ножи и резать
стукачей — вот оно!
Сейчас, когда я пишу эту главу, ряды гуманных книг нависают надо мной с настенных
полок и тускло–посверкивающими неновыми корешками укоризненно мерцают, как звёзды
сквозь облака: ничего в мире нельзя добиваться насилием. Взявши меч, нож, винтовку, — мы
быстро сравняемся с нашими палачами и насильниками. И не будет конца…
Не будет конца… Здесь, за столом, в тепле ивчисте, я с этим вполне согласен.
Но надо получить двадцать пять лет ни за что, надеть на себя четыре номера, руки
держать всегда назад, утром и вечером обыскиваться, изнемогать в работе, быть таскаемым в
БУР по доносам, безвозвратно затаптываться в землю, — чтобы оттуда, из ямы этой, все
речи великих гуманистов показались бы болтовнёю сытых вольняшек.
Не будет конца!.. — да начало ли будет? Просвет ли будет в нашей жизни или нет?
Заключил же подгнётный народ: благостью лихость не изоймёшь.
Стукачи— тоже люди?.. Надзиратели ходят по баракам и объявляют для нашего
устрашения приказ по всему Песчаному лагерю: на каком–то из женских лагпунктов две
девушки (по годам рождения видно, как молоды) вели антисоветские разговоры. Трибунал в
составе…
Этих девушек, шептавшихся на вагонке, уже имевших по десять лет хомута, — какая
заложила стерва, тоже ведь захомутанная?! Какие же стукачи — люди?!
Сомнений не было. А удары первые были всё же нелегки.
Не знаю, где как (резать стали во всех Особлагах, даже в инвалидном Спасске!), а у нас
это началось с приезда дубовского этапа— в основном западных украинцев, ОУНовцев. Для
всего этого движения они повсеместно сделали очень много, да они и стронули воз.
Дубовский этап привёз к нам бациллу мятежа.
Молодые, сильные ребята, взятые прямо с партизанской тропы, они вДубовке
огляделись, ужаснулись этой спячке и рабству — и потянулись к ножу.
В Дубовке это быстро кончилось мятежом, пожаром и расформированием. Но лагерные
хозяева, самоуверенные, ослеплённые (тридцать лет они не встречали никакого
сопротивления, отвыкли от него), — не позаботились даже держать привезенных
мятежников отдельно от нас. Их распустили по лагерю, по бригадам. Это был приём ИТЛ:
там распыление глушило протест. Но в нашей, уже очищающейся, среде распыление только
помогло быстрее охватить всю толщу огнём.
Новички выходили с бригадами на работу, но не притрагивались к ней или для вида
только, а лежали на солнышке (лето как раз) и тихо беседовали. Со стороны в такой момент
они очень походили на блатных в законе, тем более что были такие же молодые, упитанные,
широкоплечие.
Да закон и прояснялся, но новый удивительный закон: «умри в эту ночь, у кого
нечистая совесть!»