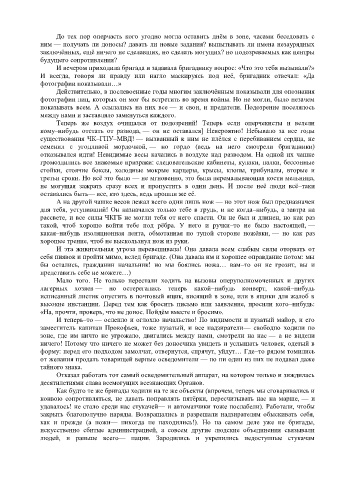Page 722 - Архипелаг ГУЛаг
P. 722
До тех пор оперчасть кого угодно могла оставить днём в зоне, часами беседовать с
ним — получать ли доносы? давать ли новые задания? выпытывать ли имена незаурядных
заключённых, ещё ничего не сделавших, но сделать могущих? но подозреваемых как центры
будущего сопротивления?
И вечером приходила бригада и задавала бригаднику вопрос: «Что это тебя вызывали?»
И всегда, говоря ли правду или нагло маскируясь под неё, бригадник отвечал: «Да
фотографии показывали…»
Действительно, в послевоенные годы многим заключённым показывали для опознания
фотографии лиц, которых он мог бы встретить во время войны. Но не могли, было незачем
показывать всем. А ссылались на них все — и свои, и предатели. Подозрение поселялось
между нами и заставляло замкнуться каждого.
Теперь же воздух очищался от подозрений! Теперь если оперчекисты и велели
кому–нибудь отстать от развода, — он не оставался] Невероятно! Небывало за все годы
существования ЧК–ГПУ–МВД! — вызванный к ним не плёлся с перебиванием сердца, не
семенил с угодливой мордочкой, — но гордо (ведь на него смотрели бригадники)
отказывался идти! Невидимые весы качались в воздухе над разводом. На одной их чашке
громоздились все знакомые призраки: следовательские кабинеты, кулаки, палки, бессонные
стойки, стоячие боксы, холодные мокрые карцеры, крысы, клопы, трибуналы, вторые и
третьи сроки. Но всё это было — не мгновенно, это была перемалывающая кости мельница,
не могущая зажрать сразу всех и пропустить в один день. И после неё люди всё–таки
оставались быть— все, кто здесь, ведь прошли же её.
А на другой чашке весов лежал всего один лишь нож — но этот нож был предназначен
для тебя, уступивший! Он назначался только тебе в грудь, и не когда–нибудь, а завтра на
рассвете, и все силы ЧКГБ не могли тебя от него спасти. Он не был и длинен, но как раз
такой, чтоб хорошо войти тебе под рёбра. У него и ручки–то не было настоящей, —
какая–нибудь изоляционная лента, обмотанная по тупой стороне ножёвки, — но как раз
хорошее трение, чтоб не выскользнул нож из руки.
И эта живительная угроза перевешивала! Она давала всем слабым силы оторвать от
себя пиявок и пройти мимо, вслед бригаде. (Она давала им и хорошее оправдание потом: мы
бы остались, гражданин начальник! но мы боялись ножа… вам–то он не грозит, вы и
представить себе не можете…)
Мало того. Не только перестали ходить на вызовы оперуполномоченных и других
лагерных хозяев — но остерегались теперь какой–нибудь конверт, какой–нибудь
исписанный листик опустить в почтовый ящик, висящий в зоне, или в ящики для жалоб в
высокие инстанции. Перед тем как бросить письмо или заявление, просили кого–нибудь:
«На, прочти, проверь, что не донос. Пойдём вместе и бросим».
И теперь–то — ослепло и оглохло начальство! По видимости и пузатый майор, и его
заместитель капитан Прокофьев, тоже пузатый, и все надзиратели— свободно ходили по
зоне, где им ничто не угрожало, двигались между нами, смотрели на нас — а не видели
ничего! Потому что ничего не может без доносчика увидеть и услышать человек, одетый в
форму: перед его подходом замолчат, отвернутся, спрячут, уйдут… Где–то рядом томились
от желания продать товарищей верные осведомители — но ни один из них не подавал даже
тайного знака.
Отказал работать тот самый осведомительный аппарат, на котором только и зиждилась
десятилетиями слава всемогущих всезнающих Органов.
Как будто те же бригады ходили на те же объекты (впрочем, теперь мы сговаривались и
конвою сопротивляться, не давать поправлять пятёрки, пересчитывать нас на марше, — и
удавалось! не стало среди нас стукачей— и автоматчики тоже послабели). Работали, чтобы
закрыть благополучно наряды. Возвращались и разрешали надзирателям обыскивать себя,
как и прежде (а ножи— никогда не находились!). Но на самом деле уже не бригады,
искусственно сбитые администрацией, а совсем другие людские объединения связывали
людей, и раньше всего— нации. Зародились и укрепились недоступные стукачам