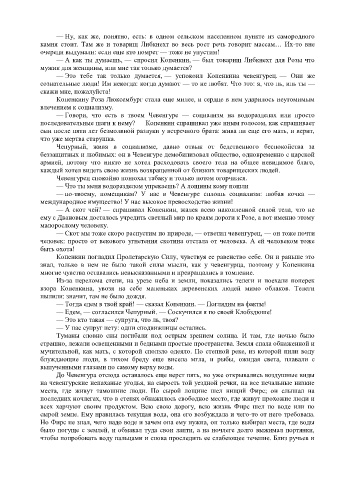Page 100 - Чевенгур
P. 100
— Ну, как же, понятно, есть: в одном сельском населенном пункте из самородного
камня стоит. Там же и товарищ Либкнехт во весь рост речь говорит массам… Их-то вне
очереди выдумали: если еще кто помрет — тоже не упустим!
— А как ты думаешь, — спросил Копенкин, — был товарищ Либкнехт для Розы что
мужик для женщины, или мне так только думается?
— Это тебе так только думается, — успокоил Копенкина чевенгурец. — Они же
сознательные люди! Им некогда: когда думают — то не любят. Что это: я, что ль, иль ты —
скажи мне, пожалуйста!
Копенкину Роза Люксембург стала еще милее, и сердце в нем ударилось неутомимым
влечением к социализму.
— Говори, что есть в твоем Чевенгуре — социализм на водоразделах или просто
последовательные шаги к нему? — Копенкин спрашивал уже иным голосом, как спрашивает
сын после пяти лет безмолвной разлуки у встречного брата: жива ли еще его мать, и верит,
что уже мертва старушка.
Чепурный, живя в социализме, давно отвык от бедственного беспокойства за
беззащитных и любимых: он в Чевенгуре демобилизовал общество, одновременно с царской
армией, потому что никто не хотел расходовать своего тела на общее невидимое благо,
каждый хотел видеть свою жизнь возвращенной от близких товарищеских людей.
Чевенгурец спокойно понюхал табаку и только потом огорчился.
— Что ты меня водоразделом упрекаешь? А лощины кому пошли
— по-твоему, помещикам? У нас в Чевенгуре сплошь социализм: любая кочка —
международное имущество! У нас высокое превосходство жизни!
— А скот чей? — спрашивал Копенкин, жалея всею накопленной силой тела, что не
ему с Двановым досталось учредить светлый мир по краям дороги к Розе, а вот именно этому
малорослому человеку.
— Скот мы тоже скоро распустим по природе, — ответил чевенгурец, — он тоже почти
человек: просто от векового угнетения скотина отстала от человека. А ей человеком тоже
быть охота!
Копенкин погладил Пролетарскую Силу, чувствуя ее равенство себе. Он и раньше это
знал, только в нем не было такой силы мысли, как у чевенгурца, поэтому у Копенкина
многие чувства оставались невысказанными и превращались в томление.
Из-за перелома степи, на урезе неба и земли, показались телеги и поехали поперек
взора Копенкина, увозя на себе маленьких деревенских людей мимо облаков. Телеги
пылили: значит, там не было дождя.
— Тогда едем в твой край! — сказал Копенкин. — Поглядим на факты!
— Едем, — согласился Чепурный. — Соскучился я по своей Клобздюше!
— Это кто такая — супруга, что ль, твоя?
— У нас супруг нету: одни сподвижницы остались.
Туманы словно сны погибали под острым зрением солнца. И там, где ночью было
страшно, лежали освещенными и бедными простые пространства. Земля спала обнаженной и
мучительной, как мать, с которой сползло одеяло. По степной реке, из которой пили воду
блуждающие люди, в тихом бреду еще висела мгла, и рыбы, ожидая света, плавали с
выпученными глазами по самому верху воды.
До Чевенгура отсюда оставалось еще верст пять, но уже открывались воздушные виды
на чевенгурские непаханые угодья, на сырость той уездной речки, на все печальные низкие
места, где живут тамошние люди. По сырой лощине шел нищий Фирс; он слышал на
последних ночлегах, что в степях обнажилось свободное место, где живут прохожие люди и
всех харчуют своим продуктом. Всю свою дорогу, всю жизнь Фирс шел по воде или по
сырой земле. Ему нравилась текущая вода, она его возбуждала и чего-то от него требовала.
Но Фирс не знал, чего надо воде и зачем она ему нужна, он только выбирал места, где воды
было погуще с землей, и обмакал туда свои лапти, а на ночлеге долго выжимал портянки,
чтобы попробовать воду пальцами и снова проследить ее слабеющее течение. Близ ручьев и