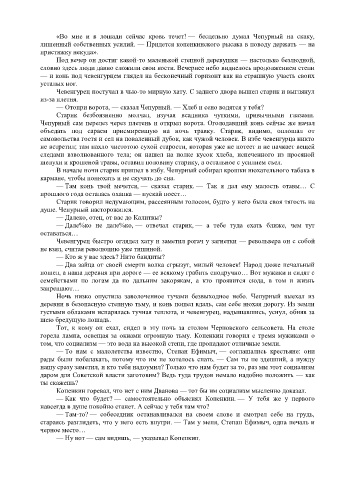Page 96 - Чевенгур
P. 96
«Во мне и в лошади сейчас кровь течет! — бесцельно думал Чепурный на скаку,
лишенный собственных усилий. — Придется копенкинского рысака в поводу держать — на
пристяжку некуда».
Под вечер он достиг какой-то маленькой степной деревушки — настолько безлюдной,
словно здесь люди давно сложили свои кости. Вечернее небо виднелось продолжением степи
— и конь под чевенгурцем глядел на бесконечный горизонт как на страшную участь своих
усталых ног.
Чевенгурец постучал в чью-то мирную хату. С заднего двора вышел старик и выглянул
из-за плетня.
— Отопри ворота, — сказал Чепурный. — Хлеб и сено водятся у тебя?
Старик безбоязненно молчал, изучая всадника чуткими, привычными глазами.
Чепурный сам перелез через плетень и открыл ворота. Оголодавший конь сейчас же начал
объедать под сараем присмиревшую на ночь травку. Старик, видимо, оплошал от
самовольства гостя и сел на поваленный дубок, как чужой человек. В избе чевенгурца никто
не встретил; там пахло чистотою сухой старости, которая уже не потеет и не пачкает вещей
следами взволнованного тела; он нашел на полке кусок хлеба, испеченного из просяной
шелухи и крошеной травы, оставил половину старику, а остальное с усилием съел.
В начале ночи старик пришел в избу. Чепурный собирал крошки нюхательного табака в
кармане, чтобы понюхать и не скучать до сна.
— Там конь твой мечется, — сказал старик. — Так я дал ему малость отавы… С
прошлого года осталась охапка — пускай поест…
Старик говорил недумающим, рассеянным голосом, будто у него была своя тягость на
душе. Чепурный насторожился.
— Далеко, отец, от вас до Калитвы?
— Дале%ко не дале%ко, — отвечал старик, — а тебе туда ехать ближе, чем тут
оставаться…
Чевенгурец быстро оглядел хату и заметил рогач у загнетки — револьвера он с собой
не взял, считая революцию уже тишиной.
— Кто ж у вас здесь? Нито бандиты?
— Два зайца от своей смерти волка сгрызут, милый человек! Народ дюже печальный
пошел, а наша деревня при дороге — ее всякому грабить сподручно… Вот мужики и сидят с
семействами по логам да по дальним закорякам, а кто проявится сюда, в том и жизнь
запрещают…
Ночь низко опустила заволоченное тучами безвыходное небо. Чепурный выехал из
деревни в безопасную степную тьму, и конь пошел вдаль, сам себе нюхая дорогу. Из земли
густыми облаками испарялась тучная теплота, и чевенгурец, надышавшись, уснул, обняв за
шею бредущую лошадь.
Тот, к кому он ехал, сидел в эту ночь за столом Черновского сельсовета. На столе
горела лампа, освещая за окнами огромную тьму. Копенкин говорил с тремя мужиками о
том, что социализм — это вода на высокой степи, где пропадают отличные земли.
— То нам с малолетства известно, Степан Ефимыч, — соглашались крестьяне: они
рады были побалакать, потому что им не хотелось спать. — Сам ты не здешний, а нужду
нашу сразу заметил, и кто тебя надоумил? Только что нам будет за то, раз мы этот социализм
даром для Советской власти заготовим? Ведь туда трудов немало надобно положить — как
ты скажешь?
Копенкин горевал, что нет с ним Дванова — тот бы им социализм мысленно доказал.
— Как что будет? — самостоятельно объяснял Копенкин. — У тебя же у первого
навсегда в душе покойно станет. А сейчас у тебя там что?
— Там-то? — собеседник останавливался на своем слове и смотрел себе на грудь,
стараясь разглядеть, что у него есть внутри. — Там у меня, Степан Ефимыч, одна печаль и
черное место…
— Ну вот — сам видишь, — указывал Копенкин.