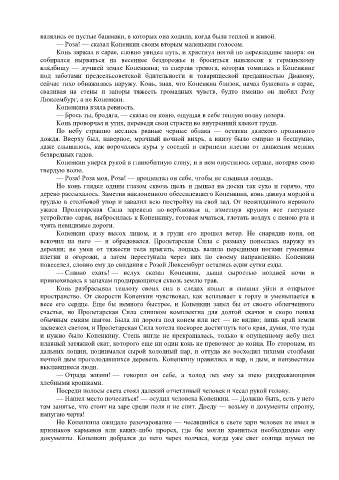Page 98 - Чевенгур
P. 98
валялись ее пустые башмаки, в которых она ходила, когда была теплой и живой.
— Роза! — сказал Копенкин своим вторым маленьким голосом.
Конь заржал в сарае, словно увидел путь, и хрястнул ногой по перекладине запора: он
собирался вырваться на весеннее бездорожье и броситься наискосок к германскому
кладбищу — лучшей земле Копенкина; та спертая тревога, которая томилась в Копенкине
под заботами предсельсоветской бдительности и товарищеской преданностью Дванову,
сейчас тихо обнажилась наружу. Конь, зная, что Копенкин близок, начал бушевать в сарае,
сваливая на стены и запоры тяжесть громадных чувств, будто именно он любил Розу
Люксембург, а не Копенкин.
Копенкина взяла ревность.
— Брось ты, бродяга, — сказал он коню, ощущая в себе теплую волну позора.
Конь проворчал и утих, переведя свои страсти во внутренний клекот груди.
По небу страшно неслись рваные черные облака — остатки далекого проливного
дождя. Вверху был, наверное, мрачный ночной вихрь, а внизу было смирно и бесшумно,
даже слышалось, как ворочались куры у соседей и скрипели плетни от движения мелких
безвредных гадов.
Копенкин уперся рукой в глинобитную стену, и в нем опустилось сердце, потеряв свою
твердую волю.
— Роза! Роза моя, Роза! — прошептал он себе, чтобы не слышала лошадь.
Но конь глядел одним глазом сквозь щель и дышал на доски так сухо и горячо, что
дерево рассыхалось. Заметив наклоненного обессилевшего Копенкина, конь давнул мордой и
грудью в столбовой упор и завалил всю постройку на свой зад. От неожиданного нервного
ужаса Пролетарская Сила заревела по-верблюжьи и, взметнув крупом все гнетущее
устройство сарая, выбросилась к Копенкину, готовая мчаться, глотать воздух с пеною рта и
чуять невидимые дороги.
Копенкин сразу высох лицом, и в груди его прошел ветер. Не снарядив коня, он
вскочил на него — и обрадовался. Пролетарская Сила с размаху понеслась наружу из
деревни; не умея от тяжести тела прыгать, лошадь валила передними ногами гуменные
плетни и огорожи, а затем переступала через них по своему направлению. Копенкин
повеселел, словно ему до свидания с Розой Люксембург остались одни сутки езды.
— Славно ехать! — вслух сказал Копенкин, дыша сыростью поздней ночи и
принюхиваясь к запахам продирающихся сквозь землю трав.
Конь разбрасывал теплоту своих сил в следах копыт и спешил уйти в открытое
пространство. От скорости Копенкин чувствовал, как всплывает к горлу и уменьшается в
весе его сердце. Еще бы немного быстрее, и Копенкин запел бы от своего облегченного
счастья, но Пролетарская Сила слишком комплектна для долгой скачки и скоро пошла
обычным емким шагом. Была ли дорога под конем или нет — не видно; лишь край земли
засвежел светом, и Пролетарская Сила хотела поскорее достигнуть того края, думая, что туда
и нужно было Копенкину. Степь нигде не прекращалась, только к опущенному небу шел
плавный затяжной скат, которого еще ни один конь не превозмог до конца. По сторонам, из
дальних лощин, поднимался сырой холодный пар, и оттуда же восходил тихими столбами
печной дым проголодавшихся деревень. Копенкину нравились и пар, и дым, и неизвестные
выспавшиеся люди.
— Отрада жизни! — говорил он себе, а холод лез ему за шею раздражающими
хлебными крошками.
Посреди полосы света стоял далекий отчетливый человек и чесал рукой голову.
— Нашел место почесаться! — осудил человека Копенкин. — Должно быть, есть у него
там занятье, что стоит на заре среди поля и не спит. Доеду — возьму и документы спрошу,
напугаю черта!
Но Копенкина ожидало разочарование — чесавшийся в свете зари человек не имел и
признаков карманов или каких-либо прорех, где бы могли храниться необходимые ему
документы. Копенкин добрался до него через полчаса, когда уже свет солнца шумел по