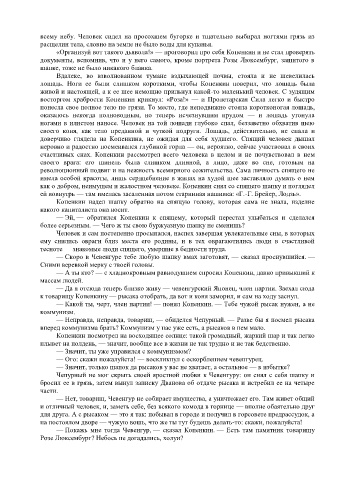Page 99 - Чевенгур
P. 99
всему небу. Человек сидел на просохшем бугорке и тщательно выбирал ногтями грязь из
расщелин тела, словно на земле не было воды для купанья.
«Организуй вот такого дьявола!» — проговорил про себя Копенкин и не стал проверять
документы, вспомнив, что и у него самого, кроме портрета Розы Люксембург, зашитого в
шапке, тоже не было никакого бланка.
Вдалеке, во взволнованном тумане вздыхающей почвы, стояла и не шевелилась
лошадь. Ноги ее были слишком короткими, чтобы Копенкин поверил, что лошадь была
живой и настоящей, а к ее шее немощно прильнул какой-то маленький человек. С зудящим
восторгом храбрости Копенкин крикнул: «Роза!» — и Пролетарская Сила легко и быстро
понесла свое полное тело по грязи. То место, где неподвижно стояла коротконогая лошадь,
оказалось некогда полноводным, но теперь исчезнувшим прудом — и лошадь утонула
ногами в илистом наносе. Человек на той лошади глубоко спал, беззаветно обхватив шею
своего коня, как тело преданной и чуткой подруги. Лошадь, действительно, не спала и
доверчиво глядела на Копенкина, не ожидая для себя худшего. Спящий человек дышал
неровно и радостно посмеивался глубиной горла — он, вероятно, сейчас участвовал в своих
счастливых снах. Копенкин рассмотрел всего человека в целом и не почувствовал в нем
своего врага: его шинель была слишком длинной, а лицо, даже во сне, готовым на
революционный подвиг и на нежность всемирного сожительства. Сама личность спящего не
имела особой красоты, лишь сердцебиение в жилах на худой шее заставляло думать о нем
как о добром, неимущем и жалостном человеке. Копенкин снял со спящего шапку и поглядел
ей вовнутрь — там имелась засаленная потом старинная нашивка: «Г.-Г. Брейер, Лодзь».
Копенкин надел шапку обратно на спящую голову, которая сама не знала, изделие
какого капиталиста она носит.
— Эй, — обратился Копенкин к спящему, который перестал улыбаться и сделался
более серьезным. — Чего ж ты свою буржуазную шапку не сменишь?
Человек и сам постепенно просыпался, наспех завершая увлекательные сны, в которых
ему снились овраги близ места его родины, и в тех оврагаютились люди в счастливой
тесноте — знакомые люди спящего, умершие в бедности труда.
— Скоро в Чевенгуре тебе любую шапку вмах заготовят, — сказал проснувшийся. —
Сними веревкой мерку с твоей головы.
— А ты кто? — с хладнокровным равнодушием спросил Копенкин, давно привыкший к
массам людей.
— Да я отсюда теперь близко живу — чевенгурский Японец, член партии. Заехал сюда
к товарищу Копенкину — рысака отобрать, да вот и коня заморил, и сам на ходу заснул.
— Какой ты, черт, член партии! — понял Копенкин. — Тебе чужой рысак нужен, а не
коммунизм.
— Неправда, неправда, товарищ, — обиделся Чепурный. — Разве бы я посмел рысака
вперед коммунизма брать? Коммунизм у нас уже есть, а рысаков в нем мало.
Копенкин посмотрел на восходящее солнце: такой громадный, жаркий шар и так легко
плывет на полдень, — значит, вообще все в жизни не так трудно и не так бедственно.
— Значит, ты уже управился с коммунизмом?
— Ого: скажи пожалуйста! — воскликнул с оскорблением чевенгурец.
— Значит, только шапок да рысаков у вас не хватает, а остальное — в избытке?
Чепурный не мог скрыть своей яростной любви к Чевенгуру: он снял с себя шапку и
бросил ее в грязь, затем вынул записку Дванова об отдаче рысака и истребил ее на четыре
части.
— Нет, товарищ, Чевенгур не собирает имущества, а уничтожает его. Там живет общий
и отличный человек, и, заметь себе, без всякого комода в горнице — вполне обаятельно друг
для друга. А с рысаком — это я так: побывал в городе и получил в горсовете предрассудок, а
на постоялом дворе — чужую вошь, что же ты тут будешь делать-то: скажи, пожалуйста!
— Покажь мне тогда Чевенгур, — сказал Копенкин. — Есть там памятник товарищу
Розе Люксембург? Небось не догадались, холуи?