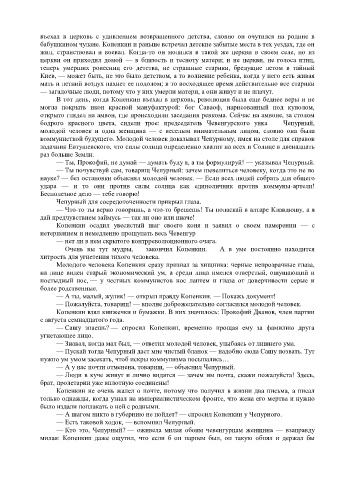Page 107 - Чевенгур
P. 107
въехал в церковь с удивлением возвращенного детства, словно он очутился на родине в
бабушкином чулане. Копенкин и раньше встречал детские забытые места в тех уездах, где он
жил, странствовал и воевал. Когда-то он молился в такой же церкви в своем селе, но из
церкви он приходил домой — в близость и тесноту матери; и не церкви, не голоса птиц,
теперь умерших ровесниц его детства, не страшные старики, бредущие летом в тайный
Киев, — может быть, не это было детством, а то волнение ребенка, когда у него есть живая
мать и летний воздух пахнет ее подолом; в то восходящее время действительно все старики
— загадочные люди, потому что у них умерли матери, а они живут и не плачут.
В тот день, когда Копенкин въехал в церковь, революция была еще беднее веры и не
могла покрыть икон красной мануфактурой: бог Саваоф, нарисованный под куполом,
открыто глядел на амвон, где происходили заседания ревкома. Сейчас на амвоне, за столом
бодрого красного цвета, сидели трое: председатель Чевенгурского уика — Чепурный,
молодой человек и одна женщина — с веселым внимательным лицом, словно она была
коммунисткой будущего. Молодой человек доказывал Чепурному, имея на столе для справок
задачник Евтушевского, что силы солнца определенно хватит на всех и Солнце в двенадцать
раз больше Земли.
— Ты, Прокофий, не думай — думать буду я, а ты формулируй! — указывал Чепурный.
— Ты почувствуй сам, товарищ Чепурный: зачем шевелиться человеку, когда это не по
науке? — без остановки объяснял молодой человек. — Если всех людей собрать для общего
удара — и то они против силы солнца как единоличник против коммуны-артели!
Бесполезное дело — тебе говорю!
Чепурный для сосредоточенности прикрыл глаза.
— Что-то ты верно говоришь, а что-то брешешь! Ты поласкай в алтаре Клавдюшу, а я
дай предчувствием займусь — так ли оно или иначе!
Копенкин осадил увесистый шаг своего коня и заявил о своем намерении — с
нетерпением и немедленно прощупать весь Чевенгур
— нет ли в нем скрытого контрреволюционного очага.
— Очень вы тут мудры, — закончил Копенкин. — А в уме постоянно находится
хитрость для угнетения тихого человека.
Молодого человека Копенкин сразу признал за хищника: черные непрозрачные глаза,
на лице виден старый экономический ум, а среди лица имелся отверстый, ощущающий и
постыдный нос, — у честных коммунистов нос лаптем и глаза от доверчивости серые и
более родственные.
— А ты, малый, жулик! — открыл правду Копенкин. — Покажь документ!
— Пожалуйста, товарищ! — вполне доброжелательно согласился молодой человек.
Копенкин взял книжечки и бумажки. В них значилось: Прокофий Дванов, член партии
с августа семнадцатого года.
— Сашу знаешь? — спросил Копенкин, временно прощая ему за фамилию друга
угнетающее лицо.
— Знавал, когда мал был, — ответил молодой человек, улыбаясь от лишнего ума.
— Пускай тогда Чепурный даст мне чистый бланок — надобно сюда Сашу позвать. Тут
нужно ум умом засекать, чтоб искры коммунизма посыпались…
— А у нас почти отменена, товарищ, — объяснил Чепурный.
— Люди в куче живут и лично видятся — зачем им почта, скажи пожалуйста! Здесь,
брат, пролетарии уже вплотную соединены!
Копенкин не очень жалел о почте, потому что получил в жизни два письма, а писал
только однажды, когда узнал на империалистическом фронте, что жена его мертва и нужно
было издали поплакать о ней с родными.
— А шагом никто в губернию не пойдет? — спросил Копенкин у Чепурного.
— Есть таковой ходок, — вспомнил Чепурный.
— Кто это, Чепурный? — оживела милая обоим чевенгурцам женщина — взаправду
милая: Копенкин даже ощутил, что если б он парнем был, он такую обнял и держал бы