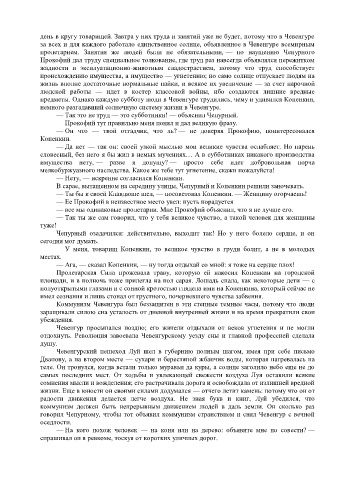Page 110 - Чевенгур
P. 110
день в кругу товарищей. Завтра у них труда и занятий уже не будет, потому что в Чевенгуре
за всех и для каждого работало единственное солнце, объявленное в Чевенгуре всемирным
пролетарием. Занятия же людей были не обязательными, — по наущению Чепурного
Прокофий дал труду специальное толкование, где труд раз навсегда объявлялся пережитком
жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует
происхождению имущества, а имущество — угнетению; но само солнце отпускает людям на
жизнь вполне достаточные нормальные пайки, и всякое их увеличение — за счет нарочной
людской работы — идет в костер классовой войны, ибо создаются лишние вредные
предметы. Однако каждую субботу люди в Чевенгуре трудились, чему и удивился Копенкин,
немного разгадавший солнечную систему жизни в Чевенгуре.
— Так это не труд — это субботники! — объяснил Чепурный.
— Прокофий тут правильно меня понял и дал великую фразу.
— Он что — твой отгадчик, что ль? — не доверяя Прокофию, поинтересовался
Копенкин.
— Да нет — так он: своей узкой мыслью мои великие чувства ослабляет. Но парень
словесный, без него я бы жил в немых мучениях… А в субботниках никакого производства
имущества нету, — разве я допущу? — просто себе идет добровольная порча
мелкобуржуазного наследства. Какое же тебе тут угнетение, скажи пожалуйста!
— Нету, — искренне согласился Копенкин.
В сарае, вытащенном на середину улицы, Чепурный и Копенкин решили заночевать.
— Ты бы к своей Клавдюше шел, — посоветовал Копенкин. — Женщину огорчаешь!
— Ее Прокофий в неизвестное место увел: пусть порадуется
— все мы одинаковые пролетарии. Мне Прокофий объяснил, что я не лучше его.
— Так ты же сам говорил, что у тебя великое чувство, а такой человек для женщины
туже!
Чепурный озадачился: действительно, выходит так! Но у него болело сердце, и он
сегодня мог думать.
— У меня, товарищ Копенкин, то великое чувство в груди болит, а не в молодых
местах.
— Ага, — сказал Копенкин, — ну тогда отдыхай со мной: я тоже на сердце плох!
Пролетарская Сила прожевала траву, которую ей накосил Копенкин на городской
площади, и в полночь тоже прилегла на пол сарая. Лошадь спала, как некоторые дети — с
полуоткрытыми глазами и с сонной кротостью глядела ими на Копенкина, который сейчас не
имел сознания и лишь стонал от грустного, почерневшего чувства забвения.
Коммунизм Чевенгура был беззащитен в эти степные темные часы, потому что люди
заращивали силою сна усталость от дневной внутренней жизни и на время прекратили свои
убеждения.
Чевенгур просыпался поздно; его жители отдыхали от веков угнетения и не могли
отдохнуть. Революция завоевала Чевенгурскому уезду сны и главной профессией сделала
душу.
Чевенгурский пешеход Луй шел в губернию полным шагом, имея при себе письмо
Дванову, а на втором месте — сухари и берестяной жбанчик воды, которая нагревалась на
теле. Он тронулся, когда встали только муравьи да куры, а солнце заголило небо еще не до
самых последних мест. От ходьбы и увлекающей свежести воздуха Луя оставили всякие
сомнения мысли и вожделения; его растрачивала дорога и освобождала от излишней вредной
жизни. Еще в юности он своими силами додумался — отчего летит камень: потому что он от
радости движения делается легче воздуха. Не зная букв и книг, Луй убедился, что
коммунизм должен быть непрерывным движением людей в даль земли. Он сколько раз
говорил Чепурному, чтобы тот объявил коммунизм странствием и снял Чевенгур с вечной
оседлости.
— На кого похож человек — на коня или на дерево: объявите мне по совести? —
спрашивал он в ревкоме, тоскуя от коротких уличных дорог.