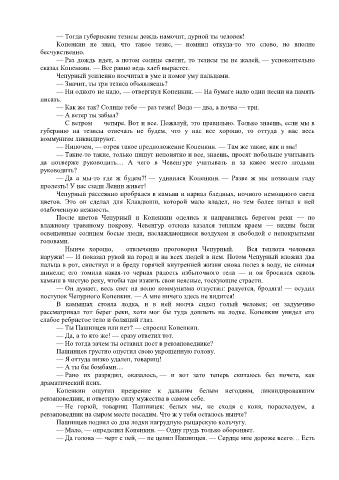Page 113 - Чевенгур
P. 113
— Тогда губернские тезисы дождь намочит, дурной ты человек!
Копенкин не знал, что такое тезис, — помнил откуда-то это слово, но вполне
бесчувственно.
— Раз дождь идет, а потом солнце светит, то тезисы ты не жалей, — успокоительно
сказал Копенкин. — Все равно ведь хлеб вырастет.
Чепурный усиленно посчитал в уме и помог уму пальцами.
— Значит, ты три тезиса объявляешь?
— Ни одного не надо, — отвергнул Копенкин. — На бумаге надо одни песни на память
писать.
— Как же так? Солнце тебе — раз тезис! Вода — два, а почва — три.
— А ветер ты забыл?
— С ветром — четыре. Вот и все. Пожалуй, это правильно. Только знаешь, если мы в
губернию на тезисы отвечать не будем, что у нас все хорошо, то оттуда у нас весь
коммунизм ликвидируют.
— Нипочем, — отрек такое предположение Копенкин. — Там же такие, как и мы!
— Такие-то такие, только пишут непонятно и все, знаешь, просят побольше учитывать
да потверже руководить… А чего в Чевенгуре учитывать и за какое место людьми
руководить?
— Да а мы-то где ж будем?! — удивился Копенкин. — Разве ж мы позволим гаду
пролезть! У нас сзади Ленин живет!
Чепурный рассеянно пробрался в камыш и нарвал бледных, ночного немощного света
цветов. Это он сделал для Клавдюши, которой мало владел, но тем более питал к ней
озабоченную нежность.
После цветов Чепурный и Копенкин оделись и направились берегом реки — по
влажному травяному покрову. Чевенгур отсюда казался теплым краем — видны были
освещенные солнцем босые люди, наслаждающиеся воздухом и свободой с непокрытыми
головами.
— Нынче хорошо, — отвлеченно проговорил Чепурный. — Вся теплота человека
наружи! — И показал рукой на город и на всех людей в нем. Потом Чепурный вложил два
пальца в рот, свистнул и в бреду горячей внутренней жизни снова полез в воду, не снимая
шинели; его томила какая-то черная радость избыточного тела — и он бросился сквозь
камыш в чистую реку, чтобы там изжить свои неясные, тоскующие страсти.
— Он думает, весь свет на волю коммунизма отпустил: радуется, бродяга! — осудил
поступок Чепурного Копенкин. — А мне ничего здесь не видится!
В камышах стояла лодка, и в ней молча сидел голый человек; он задумчиво
рассматривал тот берег реки, хотя мог бы туда доплыть на лодке. Копенкин увидел его
слабое ребристое тело и болящий глаз.
— Ты Пашинцев или нет? — спросил Копенкин.
— Да, а то кто же! — сразу ответил тот.
— Но тогда зачем ты оставил пост в ревзаповеднике?
Пашинцев грустно опустил свою укрощенную голову.
— Я оттуда низко удален, товарищ!
— А ты бы бомбами…
— Рано их разрядил, оказалось, — и вот зато теперь скитаюсь без почета, как
драматический псих.
Копенкин ощутил презрение к дальним белым негодяям, ликвидировавшим
ревзаповедник, и ответную силу мужества в самом себе.
— Не горюй, товарищ Пашинцев: белых мы, не сходя с коня, порасходуем, а
ревзаповедник на сыром месте посадим. Что ж у тебя осталось нынче?
Пашинцев поднял со дна лодки нагрудную рыцарскую кольчугу.
— Мало, — определил Копенкин. — Одну грудь только обороняет.
— Да голова — черт с ней, — не ценил Пашинцев. — Сердце мне дороже всего… Есть