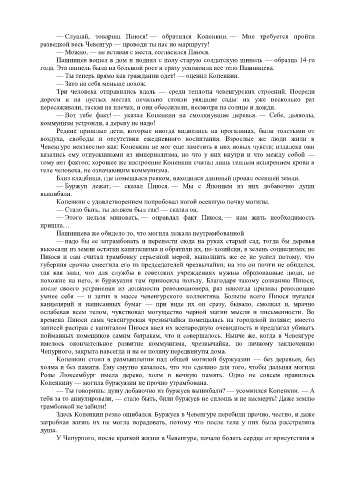Page 115 - Чевенгур
P. 115
— Слушай, товарищ Пиюся! — обратился Копенкин. — Мне требуется пройти
разведкой весь Чевенгур — проводи ты нас по маршруту!
— Можно, — не вставая с места, согласился Пиюся.
Пашинцев вошел в дом и поднял с полу старую солдатскую шинель — образца 14-го
года. Эта шинель была на большой рост и сразу успокоила все тело Пашинцева.
— Ты теперь прямо как гражданин одет! — оценил Копенкин.
— Зато на себя меньше похож.
Три человека отправились вдаль — среди теплоты чевенгурских строений. Посреди
дороги и на пустых местах печально стояли увядшие сады: их уже несколько раз
пересаживали, таская на плечах, и они обессилели, несмотря на солнце и дожди.
— Вот тебе факт! — указал Копенкин на смолкнувшие деревья. — Себе, дьяволы,
коммунизм устроили, а дереву не надо!
Редкие пришлые дети, которые иногда виднелись на прогалинах, были толстыми от
воздуха, свободы и отсутствия ежедневного воспитания. Взрослые же люди жили в
Чевенгуре неизвестно как: Копенкин не мог еще заметить в них новых чувств; издалека они
казались ему отпускниками из империализма, но что у них внутри и что между собой —
тому нет фактов; хорошее же настроение Копенкин считал лишь теплым испарением крови в
теле человека, не означающим коммунизма.
Близ кладбища, где помещался ревком, находился длинный провал осевшей земли.
— Буржуи лежат, — сказал Пиюся. — Мы с Японцем из них добавочно души
вышибали.
Копенкин с удовлетворением попробовал ногой осевшую почву могилы.
— Стало быть, ты должен был так! — сказал он.
— Этого нельзя миновать, — оправдал факт Пиюся, — нам жить необходимость
пришла…
Пашинцева же обидело то, что могила лежала неутрамбованной
— надо бы ее затрамбовать и перенести сюда на руках старый сад, тогда бы деревья
высосали из земли остатки капитализма и обратили их, по-хозяйски, в зелень социализма; но
Пиюся и сам считал трамбовку серьезной мерой, выполнить же ее не успел потому, что
губерния срочно сместила его из председателей чрезвычайки; на это он почти не обиделся,
так как знал, что для службы в советских учреждениях нужны образованные люди, не
похожие на него, и буржуазия там приносила пользу. Благодаря такому сознанию Пиюся,
после своего устранения из должности революционера, раз навсегда признал революцию
умнее себя — и затих в массе чевенгурского коллектива. Больше всего Пиюся пугался
канцелярий и написанных бумаг — при виде их он сразу, бывало, смолкал и, мрачно
ослабевая всем телом, чувствовал могущество черной магии мысли и письменности. Во
времена Пиюси сама чевенгурская чрезвычайка помещалась на городской поляне; вместо
записей расправ с капиталом Пиюся ввел их всенародную очевидность и предлагал убивать
пойманных помещиков самим батракам, что и совершалось. Нынче же, когда в Чевенгуре
имелось окончательное развитие коммунизма, чрезвычайка, по личному заключению
Чепурного, закрыта навсегда и на ее поляну передвинуты дома.
Копенкин стоял в размышлении над общей могилой буржуазии — без деревьев, без
холма и без памяти. Ему смутно казалось, что это сделано для того, чтобы дальняя могила
Розы Люксембург имела дерево, холм и вечную память. Одно не совсем нравилось
Копенкину — могила буржуазии не прочно утрамбована.
— Ты говоришь: душу добавочно из буржуев вышибали? — усомнился Копенкин. — А
тебя за то аннулировали, — стало быть, били буржуев не сплошь и не насмерть! Даже землю
трамбовкой не забили!
Здесь Копенкин резко ошибался. Буржуев в Чевенгуре перебили прочно, честно, и даже
загробная жизнь их не могла порадовать, потому что после тела у них была расстреляна
душа.
У Чепурного, после краткой жизни в Чевенгуре, начало болеть сердце от присутствия в