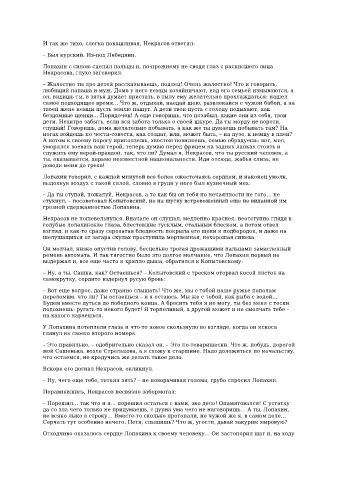Page 101 - Донские рассказы
P. 101
И так же тихо, слегка покашливая, Некрасов ответил:
– Был курский. Из-под Лебедяни.
Лопахин с силою сцепил пальцы и, по-прежнему не сводя глаз с раскисшего лица
Некрасова, глухо заговорил:
– Жалостно ты про детей рассказываешь, подлец! Очень жалостно! Что и говорить,
любящий папаша и муж. Дома у него немцы хозяйничают, над его семьей измываются, а
он, видишь ты, в зятья думает пристать, в тылу ему желательно прохлаждаться: нашел
самое подходящее время… Что ж, отдыхай, наедай шею, развлекайся с чужой бабой, а на
твоей жене немцы пусть землю пашут. А дети твои пусть с голоду подыхают, как
бездомные щенки… Порядочек! А еще говоришь, что позабыл, какие они из себя, твои
дети. Нехитро забыть, если вся забота только о своей шкуре. Да ты морду не вороти,
слушай! Говоришь, дома желательно побывать, а как же ты думаешь побывать там? На
ногах войдешь по чести-совести, как солдат, или, может быть, – на пузе, к немцу в плен?
А потом к своему порогу приползешь, хвостом повиляешь, семью обрадуешь: вот, мол,
уморился воевать ваш герой, теперь думаю перед фрицем на задних лапках стоять и
служить ему верой-правдой, так, что ли? Думал я, Некрасов, что ты русский человек, а
ты, оказывается, дерьмо неизвестной национальности. Иди отсюда, жабья слизь, не
доводи меня до греха!
Лопахин говорил, с каждой минутой все более ожесточаясь сердцем, и наконец умолк,
выдохнув воздух с такой силой, словно в груди у него был кузнечный мех.
– Да ты ступай, пожалуй, Некрасов, а то как бы он тебя по нечаянности не того… не
стукнул, – посоветовал Копытовский, не на шутку встревоженный еще не виданной им
грозной сдержанностью Лопахина.
Некрасов не пошевельнулся. Вначале он слушал, медленно краснея, неотступно глядя в
голубые лопахинские глаза, блестевшие тусклым, стальным блеском, а потом отвел
взгляд, и как-то сразу сероватая бледность покрыла его щеки и подбородок, и даже на
шелушащихся от загара скулах проступила мертвенная, нехорошая синева.
Он молчал, низко опустив голову, бесцельно трогая дрожащими пальцами замасленный
ремень автомата. И так тягостно было это долгое молчание, что Лопахин первый не
выдержал и, все еще часто и хрипло дыша, обратился к Копытовскому:
– Ну, а ты, Сашка, как? Остаешься? – Копытовский с треском оторвал косой листок на
самокрутку, сердито вздернул русую бровь:
– Вот еще вопрос, даже странно слышать! Что же, мы с тобой наше ружье пополам
переломим, что ли? Ты остаешься – и я остаюсь. Мы же с тобой, как рыба с водой…
Будем вместе дуться до победного конца. А бросить тебя я не могу, ты без меня с тоски
подохнешь: ругать-то некого будет! Я терпеливый, а другой может и не смолчать тебе –
на какого нарвешься.
У Лопахина потеплели глаза и что-то новое скользнуло во взгляде, когда он искоса
глянул на своего второго номера.
– Это правильно, – одобрительно сказал он. – Это по-товарищески. Что ж, побудь, дорогой
мой Сашенька, возле Стрельцова, а я схожу к старшине. Надо доложиться по начальству,
что остаемся, не крадучись же делать такое дело.
Вскоре его догнал Некрасов, окликнул.
– Ну, чего еще тебе, теткин зять? – не поворачивая головы, грубо спросил Лопахин.
Поравнявшись, Некрасов несвязно забормотал:
– Порешил… так что и я… порешил остаться с вами, эко дело! Опамятовался! С устатку
да со зла чего только не придумаешь, с дурна ума чего не наговоришь… А ты, Лопахин,
не всяко лыко в строку… Вместе-то сколько протопали, не чужой же я, в самом деле…
Серчать тут особенно нечего. Петя, слышишь? Что ж, угости, давай закурим мировую?
Отходчиво оказалось сердце Лопахина к своему человеку… Он застопорил шаг и, на ходу