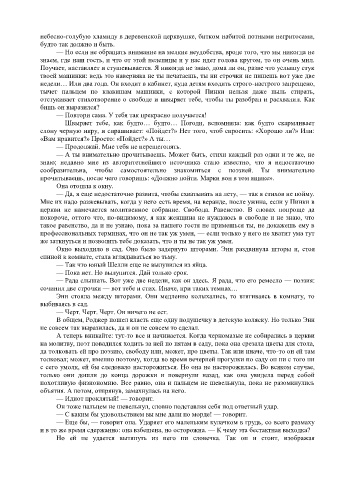Page 126 - Собрание рассказов
P. 126
небесно-голубую хламиду в деревенской церквушке, битком набитой потными негритосами,
будто так должно и быть.
— Но если не обращать внимание на мелкие неудобства, вроде того, что мы никогда не
знаем, где наш гость, и что от этой нелепицы и у нас идет голова кругом, то он очень мил.
Поучает, наставляет и стушевывается. Я никогда не знаю, дома ли он, разве что услышу стук
твоей машинки: ведь это наверняка не ты печатаешь, ты ни строчки не пишешь вот уже две
недели… Или два года. Он входит в кабинет, куда детям входить строго-настрого запрещено,
тычет пальцем по клавишам машинки, с которой Пинки нельзя даже пыль стирать,
отстукивает стихотворение о свободе и швыряет тебе, чтобы ты разобрал и расхвалил. Как
бишь он выразился?
— Повтори сама. У тебя так прекрасно получается!
— Швыряет тебе, как будто… будто… Погоди, вспомнила: как будто скармливает
слону черную икру, и спрашивает: «Пойдет?» Нет того, чтоб спросить: «Хорошо ли?» Или:
«Вам нравится?» Просто: «Пойдет?» А ты…
— Продолжай. Мне тебя не перещеголять.
— А ты внимательно прочитываешь. Может быть, стихи каждый раз одни и те же, не
знаю; недавно мне из авторитетнейшего источника стало известно, что я недостаточно
сообразительна, чтобы самостоятельно знакомиться с поэзией. Ты внимательно
прочитываешь, после чего говоришь: «Должно пойти. Марки вон в том ящике».
Она отошла к окну.
— Да, я еще недостаточно развита, чтобы схватывать на лету, — так я стихов не пойму.
Мне их надо разжевывать, когда у него есть время, на веранде, после ужина, если у Пинки в
церкви не намечается молитвенное собрание. Свобода. Равенство. В словах попроще да
покороче, оттого что, по-видимому, я как женщина не нуждаюсь в свободе и не знаю, что
такое равенство, да и не узнаю, пока за нашего гостя не примешься ты, не докажешь ему в
профессиональных терминах, что он не так уж умен, — если только у него не хватит ума тут
же заткнуться и позволить тебе доказать, что и ты не так уж умен.
Окно выходило в сад. Оно было задернуто шторами. Энн раздвинула шторы и, стоя
спиной к комнате, стала вглядываться во тьму.
— Так что юный Шелли еще не вылупился из яйца.
— Пока нет. Но вылупится. Дай только срок.
— Рада слышать. Вот уже две недели, как он здесь. Я рада, что его ремесло — поэзия:
сочинил две строчки — вот тебе и стих. Иначе, при таких темпах…
Энн стояла между шторами. Они медленно колыхались, то втягиваясь в комнату, то
выбиваясь в сад.
— Черт. Черт. Черт. Он ничего не ест.
В общем, Роджер пошел класть еще одну подушечку в детскую коляску. Но только Энн
не совсем так выразилась, да и он не совсем то сделал.
А теперь вникайте: тут-то все и начинается. Когда черномазые не собирались в церкви
на молитву, поэт повадился ходить за ней по пятам в саду, пока она срезала цветы для стола,
да толковать ей про поэзию, свободу или, может, про цветы. Так или иначе, что-то он ей там
толковал; может, именно поэтому, когда во время вечерней прогулки по саду он ни с того ни
с сего умолк, ей бы следовало насторожиться. Но она не насторожилась. Во всяком случае,
только они дошли до конца дорожки и повернули назад, как она увидела перед собой
похотливую физиономию. Все равно, она и пальцем не шевельнула, пока не разомкнулись
объятия. А потом, отпрянув, замахнулась на него.
— Идиот проклятый! — говорит.
Он тоже пальцем не шевельнул, словно подставляя себя под ответный удар.
— С каким бы удовольствием вы мне дали по морде! — говорит.
— Еще бы, — говорит она. Ударяет его маленьким кулачком в грудь, со всего размаху
и в то же время сдержанно: она взбешена, но осторожна. — К чему эта бестактная выходка?
Но ей не удается вытянуть из него ни словечка. Так он и стоит, изображая