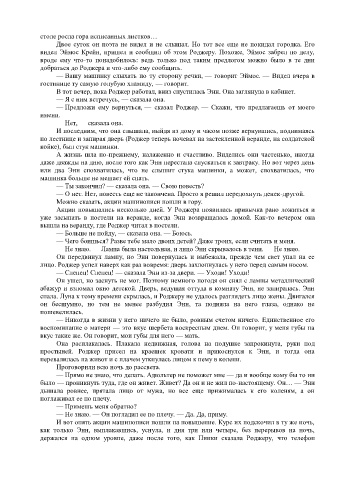Page 129 - Собрание рассказов
P. 129
столе росла гора исписанных листков…
Двое суток он поэта не видел и не слышал. Но тот все еще не покидал городка. Его
видел Эймос Крейн, пришел и сообщил об этом Роджеру. Похоже, Эймос забрел по делу,
вроде ему что-то понадобилось: ведь только под таким предлогом можно было в те дни
добраться до Роджера и что-либо ему сообщить.
— Вашу машинку слыхать по ту сторону речки, — говорит Эймос. — Видел вчера в
гостинице ту самую голубую хламиду, — говорит.
В тот вечер, пока Роджер работал, вниз спустилась Энн. Она заглянула в кабинет.
— Я с ним встречусь, — сказала она.
— Предложи ему вернуться, — сказал Роджер. — Скажи, что предлагаешь от моего
имени.
— Нет, — сказала она.
И последним, что она слышала, выйдя из дому и часом позже вернувшись, поднимаясь
по лестнице и запирая дверь (Роджер теперь ночевал на застекленной веранде, на солдатской
койке), был стук машинки.
А жизнь шла по-прежнему, налаженно и счастливо. Виделись они частенько, иногда
даже дважды на дню, после того как Энн перестала спускаться к завтраку. Но вот через день
или два Энн спохватилась, что не слышит стука машинки, а может, спохватилась, что
машинка больше не мешает ей спать.
— Ты закончил? — сказала она. — Свою повесть?
— О нет. Нет, повесть еще не закончена. Просто я решил передохнуть денек-другой.
Можно сказать, акции машинописи пошли в гору.
Акции повышались несколько дней. У Роджера появилась привычка рано ложиться и
уже засыпать в постели на веранде, когда Энн возвращалась домой. Как-то вечером она
вышла на веранду, где Роджер читал в постели.
— Больше не пойду, — сказала она. — Боюсь.
— Чего боишься? Разве тебе мало двоих детей? Даже троих, если считать и меня.
— Не знаю. — Лампа была настольная, и лицо Энн скрывалось в тени. — Не знаю.
Он передвинул лампу, но Энн повернулась и выбежала, прежде чем свет упал на ее
лицо. Роджер успел наверх как раз вовремя: дверь захлопнулась у него перед самым носом.
— Слепец! Слепец! — сказала Энн из-за двери. — Уходи! Уходи!
Он ушел, но заснуть не мог. Поэтому немного погодя он снял с лампы металлический
абажур и взломал окно детской. Дверь, ведущая оттуда в комнату Энн, не запиралась. Энн
спала. Луна к тому времени скрылась, и Роджеру не удалось разглядеть лицо жены. Двигался
он бесшумно, но тем не менее разбудил Энн, та подняла на него глаза, однако не
пошевелилась.
— Никогда в жизни у него ничего не было, ровным счетом ничего. Единственное его
воспоминание о матери — это вкус шербета воскресным днем. Он говорит, у меня губы на
вкус такие же. Он говорит, мои губы для него — мать.
Она расплакалась. Плакала недвижная, голова на подушке запрокинута, руки под
простыней. Роджер присел на краешек кровати и прикоснулся к Энн, и тогда она
перевалилась на живот и с плачем уткнулась лицом к нему в колени.
Проговорили всю ночь до рассвета.
— Прямо не знаю, что делать. Адюльтер не поможет мне — да и вообще кому бы то ни
было — проникнуть туда, где он живет. Живет? Да он и не жил по-настоящему. Он… — Энн
дышала ровнее, прятала лицо от мужа, но все еще прижималась к его коленям, а он
поглаживал ее по плечу.
— Примешь меня обратно?
— Не знаю. — Он погладил ее по плечу. — Да. Да, приму.
И вот опять акции машинописи пошли на повышение. Курс их подскочил в ту же ночь,
как только Энн, выплакавшись, уснула, и дня три или четыре, без перерывов на ночь,
держался на одном уровне, даже после того, как Пинки сказала Роджеру, что телефон