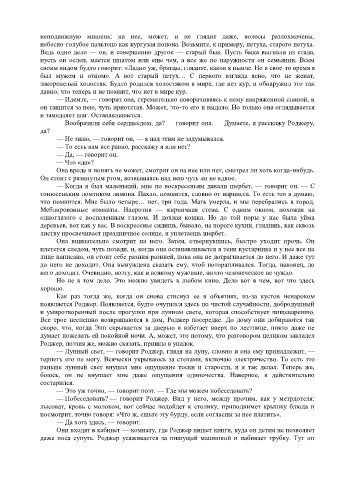Page 127 - Собрание рассказов
P. 127
неподвижную мишень; на нее, может, и не глядит даже, волосы разлохмачены,
небесно-голубое пальтецо как кургузая попона. Возьмите, к примеру, петуха, старого петуха.
Ведь одно дело — он, и совершенно другое — старый бык. Пусть быка выгнали из стада,
пусть он ослеп, мается шпатом или еще чем, а все же по наружности он семьянин. Всем
своим видом будто говорит: «Ладно уж, братцы, глядите, каков я нынче. Но в свое-то время я
был мужем и отцом». А вот старый петух… С первого взгляда ясно, что не женат,
закоренелый холостяк. Будто родился холостяком в мире, где нет кур, и обнаружил это так
давно, что теперь и не помнит, что нет в мире кур.
— Идемте, — говорит она, стремительно поворачиваясь к нему напряженной спиной, и
он тащится за нею, чуть приотстав. Может, это-то его и выдало. Но только она оглядывается
и замедляет шаг. Останавливается.
— Вообразили себя сердцеедом, да? — говорит она. — Думаете, я расскажу Роджеру,
да?
— Не знаю, — говорит он, — я над этим не задумывался.
— То есть вам все равно, расскажу я или нет?
— Да, — говорит он.
— Что «да»?
Она вроде и понять не может, смотрит он на нее или нет, смотрел ли хоть когда-нибудь.
Он стоит с разинутым ртом, возвышаясь над нею чуть ли не вдвое.
— Когда я был маленький, мне по воскресеньям давали шербет, — говорит он. — С
тонюсеньким ломтиком лимона. Пахло, помнится, словно от нарцисса. То есть это я думаю,
что помнится. Мне было четыре… нет, три года. Мать умерла, и мы перебрались в город.
Меблированные комнаты. Напротив — кирпичная стена. С одним окном, похожая на
одноглазого с воспаленным глазом. И дохлая кошка. Но до той поры у нас была уйма
деревьев, вот как у вас. В воскресенье сидишь, бывало, на пороге кухни, глядишь, как сквозь
листву просвечивает праздничное солнце, и уплетаешь шербет.
Она внимательно смотрит на него. Затем, отвернувшись, быстро уходит прочь. Он
плетется следом, чуть позади, и, когда она останавливается в тени кустарника и у нее все на
лице написано, он стоит себе разиня-разиней, пока она не дотрагивается до него. И даже тут
до него не доходит. Она вынуждена сказать ему, чтоб поторапливался. Тогда, наконец, до
него доходит. Очевидно, поэту, как и всякому мужчине, ничто человеческое не чуждо.
Но не в том дело. Это можно увидеть в любом кино. Дело вот в чем, вот что здесь
хорошо.
Как раз тогда же, когда он снова стиснул ее в объятиях, из-за кустов ненароком
появляется Роджер. Появляется, будто очутился здесь по чистой случайности, добродушный
и умиротворенный после прогулки при лунном свете, которая способствует пищеварению.
Все трое неспешно возвращаются в дом, Роджер посередке. До дому они добираются так
скоро, что, когда Энн скрывается за дверью и взбегает вверх по лестнице, никто даже не
думает пожелать ей покойной ночи. А, может, это потому, что разговором целиком завладел
Роджер, поэзия же, можно сказать, пришла в упадок.
— Лунный свет, — говорит Роджер, глядя на луну, словно и она ему принадлежит, —
терпеть его не могу. Всячески укрываюсь за стенами, включаю электричество. То есть это
раньше лунный свет внушал мне ощущение тоски и старости, и я так делал. Теперь же,
боюсь, он не внушает мне даже ощущения одиночества. Наверное, я действительно
состарился.
— Это уж точно, — говорит поэт. — Где мы можем побеседовать?
— Побеседовать? — говорит Роджер. Вид у него, между прочим, как у метрдотеля:
лысоват, кровь с молоком, вот сейчас подойдет к столику, приподнимет крышку блюда и
посмотрит, точно говоря: «Что ж, ешьте эту бурду, если согласны за нее платить».
— Да хоть здесь, — говорит.
Они входят в кабинет — комнату, где Роджер пишет книги, куда он детям не позволяет
даже носа сунуть. Роджер усаживается за пишущей машинкой и набивает трубку. Тут он