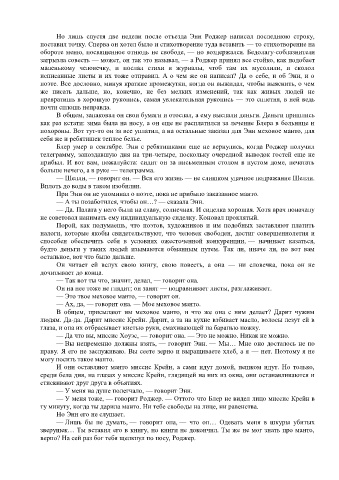Page 132 - Собрание рассказов
P. 132
Но лишь спустя две недели после отъезда Энн Роджер написал последнюю строку,
поставил точку. Сперва он хотел было и стихотворение туда вставить — то стихотворение на
обороте меню, посвященное отнюдь не свободе, — но воздержался. Бедолагу-соблазнителя
загрызла совесть — может, он так это называл, — а Роджер принял все стойко, как подобает
маленькому человечку, и послал стихи в журналы, чтоб там их мусолили, и сколол
исписанные листы и их тоже отправил. А о чем же он написал? Да о себе, и об Энн, и о
поэте. Все дословно, минуя краткие промежутки, когда он выжидал, чтобы выяснить, о чем
же писать дальше, но, конечно, не без мелких изменений, так как живых людей не
превратишь в хорошую рукопись, самая увлекательная рукопись — это сплетня, в ней ведь
почти сплошь неправда.
В общем, запаковал он свои бумаги и отослал, а ему выслали деньги. Деньги пришлись
как раз кстати: зима была на носу, а он еще не расплатился за лечение Блера в больнице и
похороны. Вот тут-то он за все уплатил, а на остальные заказал для Энн меховое манто, для
себя же и ребятишек теплое белье.
Блер умер в сентябре. Энн с ребятишками еще не вернулись, когда Роджер получил
телеграмму, запоздавшую дня на три-четыре, поскольку очередной выводок гостей еще не
прибыл. И вот вам, пожалуйста: сидит он за письменным столом в пустом доме, печатать
больше нечего, а в руке — телеграмма.
— Шелли, — говорит он. — Вся его жизнь — не слишком удачное подражание Шелли.
Вплоть до воды в таком изобилии.
При Энн он не упоминал о поэте, пока не прибыло заказанное манто.
— А ты позаботился, чтобы он…? — сказала Энн.
— Да. Палата у него была на славу, солнечная. И сиделка хорошая. Хотя врач поначалу
не советовал нанимать ему индивидуальную сиделку. Коновал проклятый.
Порой, как подумаешь, что поэтов, художников и им подобных заставляют платить
налоги, которые якобы свидетельствуют, что человек свободен, достиг совершеннолетия и
способен обеспечить себя в условиях ожесточенной конкуренции, — начинает казаться,
будто деньги у таких людей изымаются обманным путем. Так ли, иначе ли, но вот вам
остальное, вот что было дальше.
Он читает ей вслух свою книгу, свою повесть, а она — ни словечка, пока он не
дочитывает до конца.
— Так вот ты что, значит, делал, — говорит она.
Он на нее тоже не глядит; он занят — подравнивает листы, разглаживает.
— Это твое меховое манто, — говорит он.
— Ах, да, — говорит она. — Мое меховое манто.
В общем, присылают им меховое манто, и что же она с ним делает? Дарит чужим
людям. Да-да. Дарит миссис Крейн. Дарит, а та на кухне взбивает масло, волосы лезут ей в
глаза, и она их отбрасывает кистью руки, смахивающей на баранью ножку.
— Да что вы, миссис Хоуэс, — говорит она. — Это не можно. Никак не можно.
— Вы непременно должны взять, — говорит Энн. — Мы… Мне оно досталось не по
праву. Я его не заслуживаю. Вы сеете зерно и выращиваете хлеб, а я — нет. Поэтому я не
могу носить такое манто.
И они оставляют манто миссис Крейн, а сами идут домой, пешком идут. Но только,
среди бела дня, на глазах у миссис Крейн, глядящей на них из окна, они останавливаются и
стискивают друг друга в объятиях.
— У меня на душе полегчало, — говорит Энн.
— У меня тоже, — говорит Роджер. — Оттого что Блер не видел лицо миссис Крейн в
ту минуту, когда ты дарила манто. Ни тебе свободы на лице, ни равенства.
Но Энн его не слушает.
— Лишь бы не думать, — говорит она, — что он… Одевать меня в шкуры убитых
зверушек… Ты вставил его в книгу, но книги не докончил. Ты же не мог знать про манто,
верно? На сей раз бог тебя щелкнул по носу, Роджер.