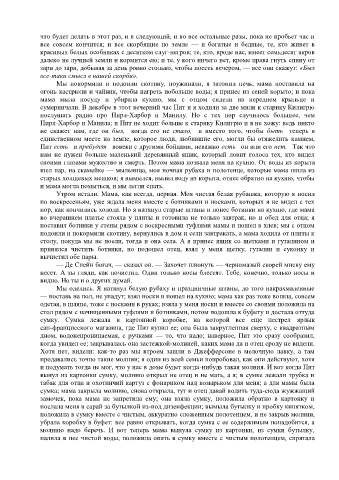Page 17 - Собрание рассказов
P. 17
что будет делать в этот раз, и в следующий, и во все остальные разы, пока не пробьет час и
все совсем кончится; и все скорбящие по земле — и богатые и бедные, те, кто живет в
красивых белых особняках с десятком слуг-негров; те, кто, вроде нас, имеет семьдесят акров
далеко не лучшей земли и кормится ею; и те, у кого ничего нет, кроме права гнуть спину от
зари до зари, добывая за день ровно столько, чтобы поесть вечером, — все они скажут: «Был
все-таки смысл в нашей скорби».
Мы покормили и подоили скотину, поужинали, я затопил печь, мама поставила на
огонь кастрюли и чайник, чтобы нагреть побольше воды; я принес из сеней корыто; и пока
мама мыла посуду и убирала кухню, мы с отцом сидели на переднем крыльце и
сумерничали. В декабре в этот вечерний час Пит и я ходили за две мили к старику Килигрю
послушать радио про Пирл-Харбор и Манилу. Но с тех пор случилось большее, чем
Пирл-Харбор и Манила; и Пит не ходит больше к старику Килигрю и я не хожу: ведь никто
не скажет нам, где он был, когда его не стало, и вместо того, чтобы быть теперь в
единственном месте на земле, которое люди, любившие его, могли бы отяжелить камнем,
Пит есть и пребудет вовеки с другими бойцами, неважно есть он или его нет. Так что
нам не нужен больше маленький деревянный ящик, который ловит голоса тех, кто видел
своими глазами мужество и смерть. Потом мама позвала меня на кухню. От воды из корыта
шел пар, на скамейке — мыльница, моя ночная рубаха и полотенце, которые мама шила из
старых холщевых мешков; я вымылся, вылил воду из корыта, отнес обратно на кухню, чтобы
и мама могла помыться, и мы легли спать.
Утром встали. Мама, как всегда, первая. Моя чистая белая рубашка, которую я носил
по воскресеньям, уже ждала меня вместе с ботинками и носками, которых я не видел с тех
пор, как кончились холода. Но я натянул старые штаны и понес ботинки на кухню, где мама
во вчерашнем платье стояла у плиты и готовила не только завтрак, но и обед для отца; я
поставил ботинки у стены рядом с воскресными туфлями мамы и пошел в хлев; мы с отцом
подоили и покормили скотину, вернулись в дом и сели завтракать, а мама ходила от плиты к
столу, покуда мы не поели, тогда и она села. А я принес ящик со щетками и гуталином и
принялся чистить ботинки, но подошел отец, взял у меня щетку, гуталин и суконку и
вычистил обе пары.
— Де Спейн богач, — сказал он. — Захочет плюнуть — черномазый скорей миску ему
несет. А ты гляди, как почистил. Одни только носы блестят. Тебе, конечно, только носы и
видно. Но ты и о других думай.
Мы оделись. Я натянул белую рубаху и праздничные штаны, до того накрахмаленные
— поставь на пол, не упадут; взял носки и пошел на кухню; мама как раз тоже вошла, совсем
одетая, в шляпе, тоже с носками в руках; взяла у меня носки и вместе со своими положила на
стол рядом с начищенными туфлями и ботинками, потом подошла к буфету и достала оттуда
сумку. Сумка лежала в картонной коробке, на которой все еще пестрел ярлык
сан-францисского магазина, где Пит купил ее; она была закругленная сверху, с квадратным
дном, водонепроницаемая, с ручками — то, что надо; наверное, Пит это сразу сообразил,
когда увидел ее; закрывалась она застежкой-молнией, каких мама да и отец сроду не видели.
Хотя нет, видели: как-то раз мы втроем зашли в Джефферсоне в мелочную лавку, а там
продавались точно такие молнии; я один из всей семьи попробовал, как они действуют, хотя
и подумать тогда не мог, что у нас в доме будет когда-нибудь такая молния. И вот когда Пит
вынул из картонки сумку, молнию открыл не отец и не мать, а я; в сумке лежали трубка и
табак для отца и охотничий картуз с фонариком над козырьком для меня; а для мамы была
сумка; мама закрыла молнию, снова открыла, тут и отец давай водить туда-сюда жужжащий
замочек, пока мама не запретила ему; она взяла сумку, положила обратно в картонку и
послала меня в сарай за бутылкой из-под дизенфекции; вымыла бутылку и пробку кипятком,
положила в сумку вместе с чистым, аккуратно сложенным полотенцем, и не закрыв молнии,
убрала коробку в буфет: все равно открывать, когда сумка с ее содержимым понадобится, а
молнию надо беречь. И вот теперь мама вынула сумку из картонки, из сумки бутылку,
налила в нее чистой воды, положила опять в сумку вместе с чистым полотенцем, спрятала