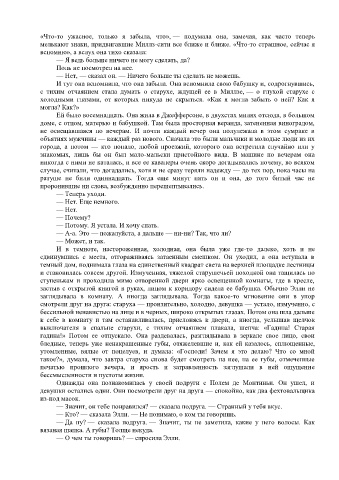Page 50 - Собрание рассказов
P. 50
«Что-то ужасное, только я забыла, что», — подумала она, замечая, как часто теперь
мелькают знаки, придвигавшие Миллз-сити все ближе и ближе. «Что-то страшное, сейчас я
вспомню», а вслух она тихо сказала:
— Я ведь больше ничего не могу сделать, да?
Поль не посмотрел на нее.
— Нет, — сказал он. — Ничего больше ты сделать не можешь.
И тут она вспомнила, что она забыла. Она вспомнила свою бабушку и, содрогнувшись,
с тихим отчаянием стала думать о старухе, ждущей ее в Миллзе, — о глухой старухе с
холодными глазами, от которых никуда не скрыться. «Как я могла забыть о ней? Как я
могла? Как?»
Ей было восемнадцать. Она жила в Джефферсоне, в двухстах милях отсюда, в большом
доме, с отцом, матерью и бабушкой. Там была просторная веранда, затененная виноградом,
не освещавшаяся по вечерам. И почти каждый вечер она полулежала в этом сумраке в
объятиях мужчины — каждый раз нового. Сначала это были мальчики и молодые люди из их
города, а потом — кто попало, любой проезжий, которого она встретила случайно или у
знакомых, лишь бы он был мало-мальски пристойного вида. В машине по вечерам она
никогда с ними не каталась, и все ее кавалеры очень скоро догадывались почему, во всяком
случае, считали, что догадались, хотя и не сразу теряли надежду — до тех пор, пока часы на
ратуше не били одиннадцать. Тогда еще минут пять он и она, до того битый час не
проронившие ни слова, возбужденно перешептывались.
— Теперь уходи.
— Нет. Еще немного.
— Нет.
— Почему?
— Потому. Я устала. И хочу спать.
— А-а. Это — пожалуйста, а дальше — ни-ни? Так, что ли?
— Может, и так.
И в темноте, настороженная, холодная, она была уже где-то далеко, хоть и не
сдвинувшись с места, отгораживаясь затаенным смешком. Он уходил, а она вступала в
темный дом, поднимала глаза на единственный квадрат света на верхней площадке лестницы
и становилась совсем другой. Измученная, тяжелой старушечьей походкой она тащилась по
ступенькам и проходила мимо отворенной двери ярко освещенной комнаты, где в кресле,
застыв с открытой книгой в руках, лицом к коридору сидела ее бабушка. Обычно Элли не
заглядывала в комнату. А иногда заглядывала. Тогда какое-то мгновение они в упор
смотрели друг на друга: старуха — пронзительно, холодно, девушка — устало, измученно, с
бессильной ненавистью на лице и в черных, широко открытых глазах. Потом она шла дальше
к себе в комнату и там останавливалась, прислонясь к двери, а иногда, услышав щелчок
выключателя в спальне старухи, с тихим отчаянием плакала, шепча: «Гадина! Старая
гадина!» Потом ее отпускало. Она раздевалась, разглядывала в зеркале свое лицо, свои
бледные, теперь уже ненакрашенные губы, отяжелевшие и, как ей казалось, сплющенные,
утомленные, вялые от поцелуев, и думала: «Господи! Зачем я это делаю? Что со мной
такое?», думала, что завтра старуха снова будет смотреть на нее, на ее губы, отмеченные
печатью прошлого вечера, и ярость и затравленность заглушали в ней ощущение
бессмысленности и пустоты жизни.
Однажды она познакомилась у своей подруги с Полем де Монтиньи. Он ушел, и
девушки остались одни. Они посмотрели друг на друга — спокойно, как два фехтовальщика
из-под масок.
— Значит, он тебе понравился? — сказала подруга. — Странный у тебя вкус.
— Кто? — сказала Элли. — Не понимаю, о ком ты говоришь.
— Да ну? — сказала подруга. — Значит, ты не заметила, какие у него волосы. Как
вязаная шапка. А губы? Толще некуда.
— О чем ты говоришь? — спросила Элли.