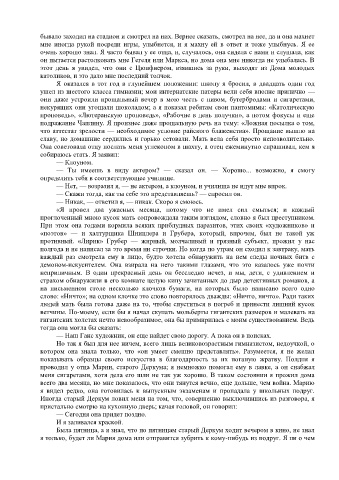Page 16 - Глазами клоуна
P. 16
бывало заходил на стадион и смотрел на них. Вернее сказать, смотрел на нее, да и она махнет
мне иногда рукой посреди игры, улыбнется, и я махну ей в ответ и тоже улыбнусь. Я ее
очень хорошо знал. Я часто бывал у ее отца, и, случалось, она сидела с нами и слушала, как
он пытается растолковать мне Гегеля или Маркса, но дома она мне никогда не улыбалась. В
этот день я увидел, что они с Цюпфнером, взявшись за руки, выходят из Дома молодых
католиков, и это дало мне последний толчок.
Я оказался в тот год в глупейшем положении: школу я бросил, в двадцать один год
ушел из шестого класса гимназии; мои интернатские патеры вели себя вполне прилично —
они даже устроили прощальный вечер в мою честь с пивом, бутербродами и сигаретами,
некурящих они угощали шоколадом; а я показал ребятам свои пантомимы: «Католическую
проповедь», «Лютеранскую проповедь», «Рабочие в день получки», а потом фокусы и еще
подражание Чаплину. Я произнес даже прощальную речь на тему: «Ложная посылка о том,
что аттестат зрелости — необходимое условие райского блаженства». Прощание вышло на
славу, но домашние сердились и горько сетовали. Мать вела себя просто непозволительно.
Она советовала отцу послать меня углекопом в шахту, а отец ежеминутно спрашивал, кем я
собираюсь стать. Я заявил:
— Клоуном.
— Ты имеешь в виду актером? — сказал он. — Хорошо... возможно, я смогу
определить тебя в соответствующее училище.
— Нет, — возразил я, — не актером, а клоуном, и училища не идут мне впрок.
— Скажи тогда, как ты себе это представляешь? — спросил он.
— Никак, — ответил я, — никак. Скоро я смоюсь.
«Я провел два ужасных месяца, потому что не имел сил смыться; и каждый
проглоченный мною кусок мать сопровождала таким взглядом, словно я был преступником.
При этом она годами кормила всяких приблудных паразитов, этих своих «художников» и
«поэтов» — и халтурщика Шницлера и Грубера, который, впрочем, был не такой уж
противный. «Лирик» Грубер — жирный, молчаливый и грязный субъект, прожил у нас
полгода и не написал за это время ни строчки. Но когда по утрам он сходил к завтраку, мать
каждый раз смотрела ему в лицо, будто хотела обнаружить на нем следы ночных битв с
демоном-искусителем. Она взирала на него такими глазами, что это казалось уже почти
неприличным. В один прекрасный день он бесследно исчез, и мы, дети, с удивлением и
страхом обнаружили в его комнате целую кипу зачитанных до дыр детективных романов, а
на письменном столе несколько клочков бумаги, на которых было написано всего одно
слово: «Ничто»; на одном клочке это слово повторялось дважды: «Ничто, ничто». Ради таких
людей мать была готова даже на то, чтобы спуститься в погреб и принести лишний кусок
ветчины. По-моему, если бы я начал скупать мольберты гигантских размеров и малевать на
гигантских холстах нечто невообразимое, она бы примирилась с моим существованием. Ведь
тогда она могла бы сказать:
— Наш Ганс художник, он еще найдет свою дорогу. А пока он в поисках.
Но так я был для нее ничем, всего лишь великовозрастным гимназистом, недоучкой, о
котором она знала только, что «он умеет смешно представлять». Разумеется, я не желал
показывать образцы своего искусства в благодарность за их поганую жратву. Полдня я
проводил у отца Марии, старого Деркума; я немножко помогал ему в лавке, а он снабжал
меня сигаретами, хотя дела его шли не так уж хорошо. В таком состоянии я прожил дома
всего два месяца, но мне показалось, что они тянутся вечно, еще дольше, чем война. Марию
я видел редко, она готовилась к выпускным экзаменам и пропадала у школьных подруг.
Иногда старый Деркум ловил меня на том, что, совершенно выключившись из разговора, я
пристально смотрю на кухонную дверь; качая головой, он говорил:
— Сегодня она придет поздно.
И я заливался краской.
Была пятница, а я знал, что по пятницам старый Деркум ходит вечером в кино, не знал
я только, будет ли Мария дома или отправится зубрить к кому-нибудь из подруг. Я ни о чем