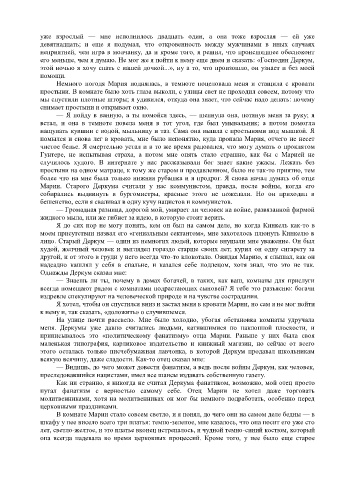Page 19 - Глазами клоуна
P. 19
уже взрослый — мне исполнилось двадцать один, а она тоже взрослая — ей уже
девятнадцать; и еще я подумал, что откровенность между мужчинами в иных случаях
неприятней, чем игра в молчанку, да и кроме того, я решил, что происшедшее обеспокоит
его меньше, чем я думаю. Не мог же я пойти к нему еще днем и сказать: «Господин Деркум,
этой ночью я хочу спать с вашей дочкой...», ну а то, что произошло, он узнает и без моей
помощи.
Немного погодя Мария поднялась, в темноте поцеловала меня и стащила с кровати
простыни. В комнате было хоть глаза выколи, с улицы свет не проходил совсем, потому что
мы спустили плотные шторы; я удивился, откуда она знает, что сейчас надо делать: почему
снимает простыни и открывает окно.
— Я пойду в ванную, а ты помойся здесь, — шепнула она, потянув меня за руку; я
встал, и она в темноте повела меня в тот угол, где был умывальник; а потом помогла
нащупать кувшин с водой, мыльницу и таз. Сама она вышла с простынями под мышкой. Я
помылся и снова лег в кровать, мне было непонятно, куда пропала Мария, отчего не несет
чистое белье. Я смертельно устал и в то же время радовался, что могу думать о проклятом
Гунтере, не испытывая страха, а потом мне опять стало страшно, как бы с Марией не
случилось худого. В интернате у нас рассказывали бог знает какие ужасы. Лежать без
простыни на одном матраце, к тому же старом и продавленном, было не так-то приятно, тем
более что на мне была только нижняя рубашка и я продрог. Я снова начал думать об отце
Марии. Старого Деркума считали у нас коммунистом, правда, после войны, когда его
собирались выдвинуть в бургомистры, красные этого не пожелали. Но он приходил в
бешенство, если я сваливал в одну кучу нацистов и коммунистов.
— Громадная разница, дорогой мой, умирает ли человек на войне, развязанной фирмой
жидкого мыла, или же гибнет за идею, в которую стоит верить.
Я до сих пор не могу понять, кем он был на самом деле, но когда Кинкель как-то в
моем присутствии назвал его «гениальным сектантом», мне захотелось плюнуть Кинкелю в
лицо. Старый Деркум — один из немногих людей, которые внушали мне уважение. Он был
худой, желчный человек и выглядел гораздо старше своих лет; курил он одну сигарету за
другой, и от этого в груди у него всегда что-то клокотало. Ожидая Марию, я слышал, как он
надсадно кашлял у себя в спальне, и казался себе подлецом, хотя знал, что это не так.
Однажды Деркум сказал мне:
— Знаешь ли ты, почему в домах богачей, в таких, как ваш, комнаты для прислуги
всегда помещают рядом с комнатами подрастающих сыновей? Я тебе это разъясню: богачи
издревле спекулируют на человеческой природе и на чувстве сострадания.
Я хотел, чтобы он спустился вниз и застал меня в кровати Марии, но сам я не мог пойти
к нему и, так сказать, «доложить» о случившемся.
На улице почти рассвело. Мне было холодно, убогая обстановка комнаты удручала
меня. Деркумы уже давно считались людьми, катившимися по наклонной плоскости, и
приписывалось это «политическому фанатизму» отца Марии. Раньше у них была своя
маленькая типография, карликовое издательство и книжный магазин, но сейчас от всего
этого осталась только писчебумажная лавчонка, в которой Деркум продавал школьникам
всякую всячину, даже сладости. Как-то отец сказал мне:
— Видишь, до чего может довести фанатизм, а ведь после войны Деркум, как человек,
преследовавшийся нацистами, имел все шансы издавать собственную газету.
Как ни странно, я никогда не считал Деркума фанатиком, возможно, мой отец просто
путал фанатизм с верностью самому себе. Отец Марии не хотел даже торговать
молитвенниками, хотя на молитвенниках он мог бы немного подработать, особенно перед
церковными праздниками.
В комнате Марии стало совсем светло, и я понял, до чего они на самом деле бедны — в
шкафу у нее висело всего три платья: темно-зеленое, мне казалось, что она носит его уже сто
лет, светло-желтое, и это платье вконец истрепалось, и чудной темно-синий костюм, который
она всегда надевала во время церковных процессий. Кроме того, у нее было еще старое