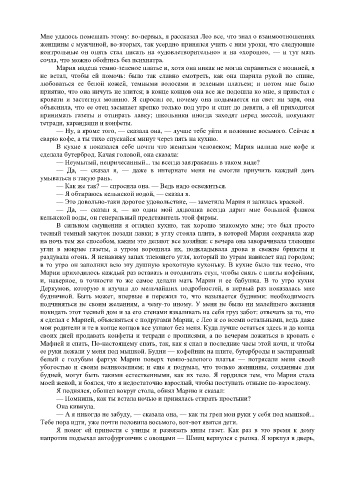Page 22 - Глазами клоуна
P. 22
Мне удалось помешать этому: во-первых, я рассказал Лео все, что знал о взаимоотношениях
женщины с мужчиной, во-вторых, так усердно принялся учить с ним уроки, что следующие
контрольные он опять стал писать на «удовлетворительно» и на «хорошо», — и тут мать
сочла, что можно обойтись без психиатра.
Мария надела темно-зеленое платье и, хотя она никак не могла справиться с молнией, я
не встал, чтобы ей помочь: было так славно смотреть, как она шарила рукой по спине,
любоваться ее белой кожей, темными волосами и зеленым платьем; и потом мне было
приятно, что она ничуть не злится; в конце концов она все же подошла ко мне, я привстал с
кровати и застегнул молнию. Я спросил ее, почему она подымается ни свет ни заря, она
объяснила, что ее отец засыпает крепко только под утро и спит до девяти, а ей приходится
принимать газеты и отпирать лавку; школьники иногда заходят перед мессой, покупают
тетради, карандаши и конфеты.
— Ну, а кроме того, — сказала она, — лучше тебе уйти в половине восьмого. Сейчас я
сварю кофе, а ты тихо спускайся минут через пять на кухню.
В кухне я показался себе почти что женатым человеком; Мария налила мне кофе и
сделала бутерброд. Качая головой, она сказала:
— Неумытый, непричесанный... ты всегда завтракаешь в таком виде?
— Да, — сказал я, — даже в интернате меня не смогли приучить каждый день
умываться в такую рань.
— Как же так? — спросила она. — Ведь надо освежиться.
— Я обтираюсь кельнской водой, — сказал я.
— Это довольно-таки дорогое удовольствие, — заметила Мария и залилась краской.
— Да, — сказал я, — но один мой дядюшка всегда дарит мне большой флакон
кельнской воды, он генеральный представитель этой фирмы.
В сильном смущении я оглядел кухню, так хорошо знакомую мне; это был просто
тесный темный закуток позади лавки; в углу стояла плита, в которой Мария сохраняла жар
на ночь тем же способом, каким это делают все хозяйки: с вечера она заворачивала тлеющие
угли в мокрые газеты, а утром ворошила их, подкладывала дрова и свежие брикеты и
раздувала огонь. Я ненавижу запах тлеющего угля, который по утрам нависает над городом;
в то утро он заполнил всю эту душную крохотную кухоньку. В кухне было так тесно, что
Марии приходилось каждый раз вставать и отодвигать стул, чтобы снять с плиты кофейник,
и, наверное, в точности то же самое делали мать Марии и ее бабушка. В то утро кухня
Деркумов, которую я изучил до мельчайших подробностей, в первый раз показалась мне
будничной. Быть может, впервые я пережил то, что называется буднями: необходимость
подчиняться не своим желаниям, а чему-то иному. У меня не было ни малейшего желания
покидать этот тесный дом и за его стенами взваливать на себя груз забот: отвечать за то, что
я сделал с Марией, объясняться с подругами Марии, с Лео и со всеми остальными, ведь даже
мои родители и те в конце концов все узнают без меня. Куда лучше остаться здесь и до конца
своих дней продавать конфеты и тетради с прописями, а по вечерам ложиться в кровать с
Мафией и спать, По-настоящему спать, так, как я спал в последние часы этой ночи, и чтобы
ее руки лежали у меня под мышкой. Будни — кофейник на плите, бутерброды и застиранный
белый с голубым фартук Марии поверх темно-зеленого платья — потрясали меня своей
убогостью и своим великолепием; и еще я подумал, что только женщины, созданные для
будней, могут быть такими естественными, как их тело. Я гордился тем, что Мария стала
моей женой, и боялся, что я недостаточно взрослый, чтобы поступать отныне по-взрослому.
Я поднялся, обошел вокруг стола, обнял Марию и сказал:
— Помнишь, как ты встала ночью и принялась стирать простыни?
Она кивнула.
— А я никогда не забуду, — сказала она, — как ты грел мои руки у себя под мышкой...
Тебе пора идти, уже почти половина восьмого, вот-вот явятся дети.
Я помог ей принести с улицы и развязать кипы газет. Как раз в это время к дому
напротив подъехал автофургончик с овощами — Шмиц вернулся с рынка. Я юркнул в дверь,