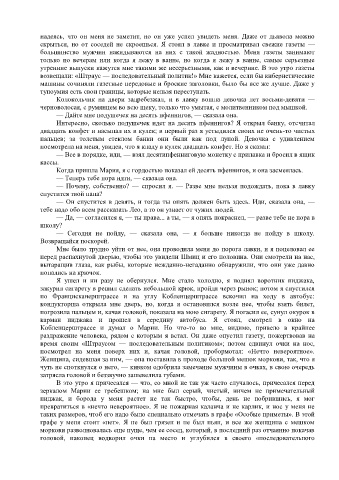Page 23 - Глазами клоуна
P. 23
надеясь, что он меня не заметит, но он уже успел увидеть меня. Даже от дьявола можно
скрыться, но от соседей не скроешься. Я стоял в лавке и просматривал свежие газеты —
большинство мужчин накидываются на них с такой жадностью. Меня газеты занимают
только по вечерам или когда я лежу в ванне, но когда я лежу в ванне, самые серьезные
утренние выпуски кажутся мне такими же несерьезными, как и вечерние. В это утро газеты
возвещали: «Штраус — последовательный политик!» Мне кажется, если бы кибернетические
машины сочиняли газетные передовые и броские заголовки, было бы все же лучше. Даже у
тупоумия есть свои границы, которые нельзя переступать.
Колокольчик на двери задребезжал, и в лавку вошла девочка лет восьми-девяти —
черноволосая, с румянцем во всю щеку, только что умытая, с молитвенником под мышкой.
— Дайте мне подушечек на десять пфеннигов, — сказала она.
Интересно, сколько подушечек идет на десять пфеннигов? Я открыл банку, отсчитал
двадцать конфет и насыпал их в кулек; в первый раз я устыдился своих не очень-то чистых
пальцев; за толстым стеклом банки они были как под лупой. Девочка с удивлением
посмотрела на меня, увидев, что я кладу в кулек двадцать конфет. Но я сказал:
— Все в порядке, иди, — взял десятипфенниговую монетку с прилавка и бросил в ящик
кассы.
Когда пришла Мария, я с гордостью показал ей десять пфеннигов, и она засмеялась.
— Теперь тебе пора идти, — сказала она.
— Почему, собственно? — спросил я. — Разве мне нельзя подождать, пока в лавку
спустится твой папа?
— Он спустится в девять, и тогда ты опять должен быть здесь. Иди, сказала она, —
тебе надо обо всем рассказать Лео, а то он узнает от чужих людей.
— Да, — согласился я, — ты права... а ты, — я опять покраснел, — разве тебе не пора в
школу?
— Сегодня не пойду, — сказала она, — я больше никогда не пойду в школу.
Возвращайся поскорей.
Мне было трудно уйти от нее, она проводила меня до порога лавки, и я поцеловал ее
перед распахнутой дверью, чтобы это увидели Шмиц и его половина. Они смотрели на нас,
вытаращив глаза, как рыбы, которые нежданно-негаданно обнаружили, что они уже давно
попались на крючок.
Я ушел и ни разу не обернулся. Мне стало холодно, я поднял воротник пиджака,
закурил сигарету в решил сделать небольшой крюк, пройдя через рынок; потом я спустился
по Францисканерштрассе и на углу Кобленцерштрассе вскочил на ходу в автобус:
кондукторша открыла мне дверь, но, когда я остановился возле нее, чтобы взять билет,
погрозила пальцем и, качая головой, показала на мою сигарету. Я погасил ее, сунул окурок в
карман пиджака и прошел в середину автобуса. Я стоял, смотрел в окно на
Кобленцерштрассе и думал о Марии. Но что-то во мне, видимо, привело в крайнее
раздражение человека, рядом с которым я встал. Он даже опустил газету, пожертвовав на
время своим «Штраусом — последовательным политиком»; потом сдвинул очки на нос,
посмотрел на меня поверх них и, качая головой, пробормотал: «Нечто невероятное».
Женщина, сидевшая за ним, — она поставила в проходе большой мешок моркови, так, что я
чуть не споткнулся о него, — кивком одобрила замечание мужчины в очках, в свою очередь
затрясла головой и беззвучно зашевелила губами.
В это утро я причесался — что, со мной не так уж часто случалось, причесался перед
зеркалом Марии ее гребешком; на мне был серый, чистый, ничем не примечательный
пиджак, и борода у меня растет не так быстро, чтобы, день не побрившись, я мог
превратиться в «нечто невероятное». Я не пожарная каланча и не карлик, и нос у меня не
таких размеров, чтоб его надо было специально отмечать в графе «Особые приметы». В этой
графе у меня стоит «нет». Я не был грязен и не был пьян, и все же женщина с мешком
моркови разволновалась еще пуще, чем ее сосед, который, в последний раз отчаянно покачав
головой, наконец водворил очки на место и углубился в своего «последовательного