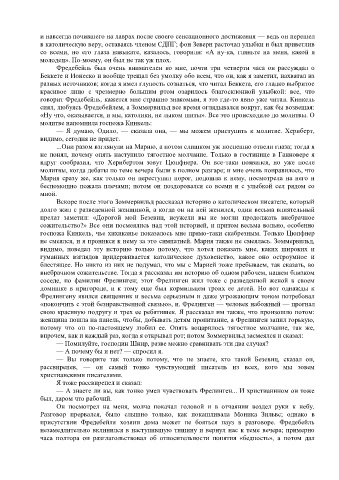Page 40 - Глазами клоуна
P. 40
и навсегда почившего на лаврах после своего сенсационного достижения — ведь он перешел
в католическую веру, оставаясь членом СДПГ; фон Зеверн расточал улыбки и был приветлив
со всеми, но его глаза навыкате, казалось, говорили: «А ну-ка, гляньте на меня, какой я
молодец». По-моему, он был не так уж плох.
Фредебейль был очень внимателен ко мне, почти три четверти часа он рассуждал о
Беккете и Ионеско и вообще трещал без умолку обо всем, что он, как я заметил, нахватал из
разных источников; когда я имел глупость сознаться, что читал Беккета, его гладко выбритое
красивое лицо с чрезмерно большим ртом озарилось благосклонной улыбкой: все, что
говорит Фредебейль, кажется мне страшно знакомым, я это где-то явно уже читал. Кинкель
сиял, любуясь Фредебейлем, а Зоммервильд все время оглядывался вокруг, как бы возвещая:
«Ну что, оказывается, и мы, католики, не лыком шиты». Все это происходило до молитвы. О
молитве напомнила госпожа Кинкель:
— Я думаю, Одило, — сказала она, — мы можем приступить к молитве. Хериберт,
видимо, сегодня не придет.
...Они разом взглянули на Марию, а потом слишком уж поспешно отвели глаза; тогда я
не понял, почему опять наступило тягостное молчание. Только в гостинице в Ганновере я
вдруг сообразил, что Херибертом зовут Цюпфнера. Он все-таки появился, но уже после
молитвы, когда дебаты по теме вечера были в полном разгаре; и мне очень понравилось, что
Мария сразу же, как только он переступил порог, подошла к нему, посмотрела на него и
беспомощно пожала плечами; потом он поздоровался со всеми и с улыбкой сел рядом со
мной.
Вскоре после этого Зоммервильд рассказал историю о католическом писателе, который
долго жил с разведенной женщиной, а когда он на ней женился, один весьма влиятельный
прелат заметил: «Дорогой мой Безевиц, неужели вы не могли продолжать внебрачное
сожительство?» Все они посмеялись над этой историей, и притом весьма вольно, особенно
госпожа Кинкель, чье хихиканье показалось мне прямо-таки скабрезным. Только Цюпфнер
не смеялся, и я проникся к нему за это симпатией. Мария также не смеялась. Зоммервильд,
видимо, поведал эту историю только потому, что хотел показать мне, каких широких и
гуманных взглядов придерживается католическое духовенство, какое оно остроумное и
блестящее. Но никто из них не подумал, что мы с Марией тоже пребываем, так сказать, во
внебрачном сожительстве. Тогда я рассказал им историю об одном рабочем, нашем близком
соседе, по фамилии Фрелинген; этот Фрелинген жил тоже с разведенной женой в своем
домишке в пригороде, и к тому еще был кормильцем троих ее детей. Но вот однажды к
Фрелингену явился священник и весьма серьезным и даже угрожающим тоном потребовал
«покончить с этой безнравственной связью», и. Фрелинген — человек набожный — прогнал
свою красивую подругу и трех ее ребятишек. Я рассказал им также, что произошло потом:
женщина пошла на панель, чтобы, добывать детям пропитание, а Фрелинген запил горькую,
потому что он по-настоящему любил ее. Опять воцарилось тягостное молчание, так же,
впрочем, как и каждый раз, когда я открывал рот; потом Зоммервильд засмеялся и сказал:
— Помилуйте, господин Шнир, разве можно сравнивать эти два случая?
— А почему бы и нет? — спросил я.
— Вы говорите так только потому, что не знаете, кто такой Безевиц, сказал он,
рассвирепев, — он самый тонко чувствующий писатель из всех, кого мы зовем
христианскими писателями.
Я тоже рассвирепел и сказал:
— А знаете ли вы, как тонко умел чувствовать Фрелинген... И христианином он тоже
был, даром что рабочий.
Он посмотрел на меня, молча покачал головой и в отчаянии воздел руки к небу.
Разговор прервался, было слышно только, как покашливала Моника Зильвс; однако в
присутствии Фредебейля хозяин дома может не бояться пауз в разговоре. Фредебейль
незамедлительно вклинился в наступившую тишину и вернул нас к теме вечера; примерно
часа полтора он разглагольствовал об относительности понятия «бедность», а потом дал