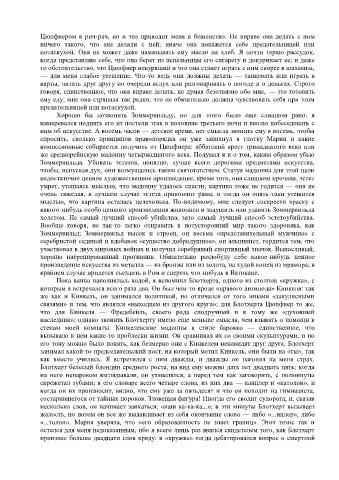Page 49 - Глазами клоуна
P. 49
Цюпфнером в рич-рач, но и это приводит меня в бешенство. Не вправе она делать с ним
ничего такого, что мы делали с ней; иначе она покажется себе предательницей или
потаскухой. Она не может даже намазывать ему масло на хлеб. Я почти теряю рассудок,
когда представляю себе, что она берет из пепельницы его сигарету и докуривает ее; и даже
то обстоятельство, что Цюпфнер некурящий и что она станет играть с ним скорее в шахматы,
— для меня слабое утешение. Что-то ведь они должны делать — танцевать или играть в
карты, читать друг другу по очереди вслух или разговаривать о погоде и о деньгах. Строго
говоря, единственное, что она вправе делать, не думая безотвязно обо мне, — это готовить
ему еду; мне она стряпала так редко, что не обязательно должна чувствовать себя при этом
предательницей или потаскухой.
Хорошо бы позвонить Зоммервильду, но для этого было еще слишком рано: я
намеревался поднять его из постели этак в половине третьего ночи и вволю побеседовать с
ним об искусстве. А восемь часов — детское время, нет смысла звонить ему в восемь, чтобы
спросить, сколько принципов правопорядка он уже запихнул в глотку Марии и какие
комиссионные собирается получить от Цюпфнера: аббатский крест тринадцатого века или
же среднерейнскую мадонну четырнадцатого века. Подумал я и о том, каким образом убью
Зоммервильда. Убивать эстетов, понятно, лучше всего дорогими предметами искусства,
чтобы, испуская дух, они возмущались таким святотатством. Статуя мадонны для этой цели
недостаточно ценное художественное произведение, кроме того, она слишком прочная, эстет
умрет, утешаясь мыслью, что мадонну удалось спасти; картина тоже не годится — она не
очень тяжелая, в лучшем случае эстета прикончит рама, и тогда он опять-таки утешится
мыслью, что картина осталась целехонька. По-видимому, мне следует соскрести краску с
какого-нибудь особо ценного произведения живописи и задушить или удавить Зоммервильда
холстом. Не самый лучший способ убийства, зато самый лучший способ эстетоубийства.
Вообще говоря, не так-то легко отправить в потусторонний мир такого здоровяка, как
Зоммервильд; Зоммервильд высок и строен, он весьма «представительный мужчина» с
серебристой сединой и вдобавок «существо добродушное», он альпинист, гордится тем, что
участвовал в двух мировых войнах и получил серебряный спортивный значок. Выносливый,
хорошо натренированный противник. Обязательно раздобуду себе какое-нибудь ценное
произведение искусства из металла — из бронзы или из золота, на худой конец из мрамора; в
крайнем случае придется съездить в Рим и спереть что-нибудь в Ватикане.
Пока ванна наполнялась водой, я вспомнил Блотхерта, одного из столпов «кружка», с
которым я встречался всего раза два. Он был чем-то вроде «правого антипода» Кинкеля: так
же как и Кинкель, он занимался политикой, но отличался от того иными «закулисными
связями» и тем, что являлся «выходцем из другого круга»; для Блотхерта Цюпфнер то же,
что для Кинкеля — Фредебейль, своего рода сподручный и к тому же «духовный
наследник»; однако звонить Блотхерту имело еще меньше смысла, чем взывать о помощи к
стенам моей комнаты. Кинкелевские мадонны в стиле барокко — единственное, что
вызывало в нем какие-то проблески жизни. Он сравнивал их со своими скульптурами, и по
его тону можно было понять, как безмерно они с Кинкелем ненавидят друг друга. Блотхерт
занимал какой-то председательский пост, на который метил Кинкель, они были на «ты», так
как вместе учились. Я встретился с ним дважды, и дважды он нагонял на меня страх.
Блотхерт белесый блондин среднего роста, на вид ему можно дать лет двадцать пять; когда
на него ненароком взглядывали, он ухмылялся, а перед тем как заговорить, с полминуты
скрежетал зубами; в его словаре всего четыре слова, из них два — канцлер и «католон», и
когда он их произносит, видно, что ему уже за пятьдесят и что он походит на гимназиста,
состарившегося от тайных пороков. Зловещая фигура! Иногда его сводит судорога, и, сказав
несколько слов, он начинает заикаться: «наш ка-ка-ка...»; в эти минуты Блотхерт вызывает
жалость, но потом он все же выдавливает из себя окончание слова — либо «...нцлер», либо
«...толон». Мария уверяла, что «его образованность не знает границ». Этот тезис так и
остался для меня недоказанным, ибо я всего лишь раз явился свидетелем того, как Блотхерт
произнес больше двадцати слов кряду: в «кружке» тогда дебатировался вопрос о смертной