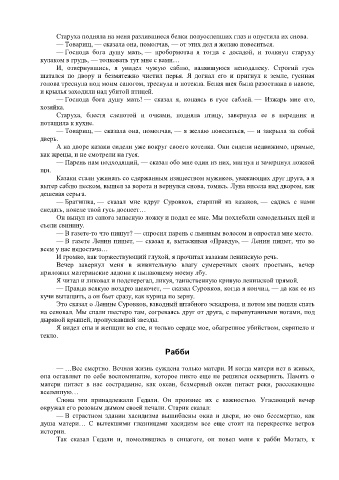Page 14 - Конармия
P. 14
Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова.
— Товарищ, — сказала она, помолчав, — от этих дел я желаю повеситься.
— Господа бога душу мать, — пробормотал я тогда с досадой, и толкнул старуху
кулаком в грудь, — толковать тут мне с вами…
И, отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь
шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле, гусиная
голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в навозе,
и крылья заходили над убитой птицей.
— Господа бога душу мать! — сказал я, копаясь в гусе саблей. — Изжарь мне его,
хозяйка.
Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и
потащила к кухне.
— Товарищ, — сказала она, помолчав, — я желаю повеситься, — и закрыла за собой
дверь.
А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимо, прямые,
как жрецы, и не смотрели на гуся.
— Парень нам подходящий, — сказал обо мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой
щи.
Казаки стали ужинать со сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга, а я
вытер саблю песком, вышел за ворота и вернулся снова, томясь. Луна висела над двором, как
дешевая серьга.
— Братишка, — сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков, — садись с нами
снедать, покеле твой гусь доспеет…
Он вынул из сапога запасную ложку и подал ее мне. Мы похлебали самодельных щей и
съели свинину.
— В газете-то что пишут? — спросил парень с льняным волосом и опростал мне место.
— В газете Ленин пишет, — сказал я, вытаскивая «Правду», — Ленин пишет, что во
всем у нас недостача…
И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь.
Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь, вечер
приложил материнские ладони к пылающему моему лбу.
Я читал и ликовал и подстерегал, ликуя, таинственную кривую ленинской прямой.
— Правда всякую ноздрю щекочет, — сказал Суровков, когда я кончил, — да как ее из
кучи вытащить, а он бьет сразу, как курица по зерну.
Это сказал о Ленине Суровков, взводный штабного эскадрона, и потом мы пошли спать
на сеновал. Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга, с перепутанными ногами, под
дырявой крышей, пропускавшей звезды.
Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и
текло.
Рабби
— …Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых,
она оставляет по себе воспоминание, которое никто еще не решился осквернить. Память о
матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный океан питает реки, рассекающие
вселенную…
Слова эти принадлежали Гедали. Он произнес их с важностью. Угасающий вечер
окружал его розовым дымом своей печали. Старик сказал:
— В страстном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как
душа матери… С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке ветров
истории.
Так сказал Гедали и, помолившись в синагоге, он повел меня к рабби Моталэ, к