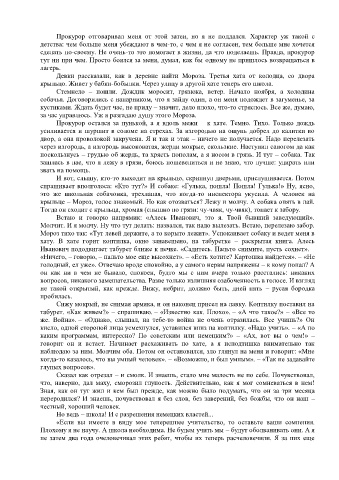Page 19 - Обелиск
P. 19
Прокурор отговаривал меня от этой затеи, но я не поддался. Характер уж такой с
детства: чем больше меня убеждают в чем-то, с чем я не согласен, тем больше мне хочется
сделать по-своему. Не очень-то это помогает в жизни, да что поделаешь. Правда, прокурор
тут ни при чем. Просто боялся за меня, думал, как бы одному не пришлось возвращаться в
лагерь.
Девки рассказали, как в деревне найти Мороза. Третья хата от колодца, со двора
крыльцо. Живет у бабки-бобылки. Через улицу в другой хате теперь его школа.
Стемнело – пошли. Дождик моросит, грязюка, ветер. Начало ноября, а холодина
собачья. Договорились с напарником, что я зайду один, а он меня подождет в загуменье, за
кустиками. Ждать будет час, не приду – значит, дело плохо, что-то стряслось. Все же, думаю,
за час управлюсь. Уж я разгадаю душу этого Мороза.
Прокурор остался за пунькой, а я вдоль межи – к хате. Темно. Тихо. Только дождь
усиливается и шуршит в соломе на стрехах. За изгородью на ощупь добрел до калитки во
двор, а она проволокой закручена. Я и так и этак – ничего не получается. Надо перелезать
через изгородь, а изгородь высоковатая, жерди мокрые, скользкие. Наступил сапогом да как
поскользнусь – грудью об жердь, та хрясть пополам, а я носом в грязь. И тут – собака. Так
зашлась в лае, что я лежу в грязи, боюсь пошевелиться и не знаю, что лучше: удирать или
звать на помощь.
И вот, слышу, кто-то выходит на крыльцо, скрипнул дверьми, прислушивается. Потом
спрашивает вполголоса: «Кто тут?» И собаке: «Гулька, пошла! Пошла! Гулька!» Ну, ясно,
это же школьная собачонка, трехлапая, что когда-то инспектора укусила. А человек на
крыльце – Мороз, голос знакомый. Но как отозваться? Лежу и молчу. А собака опять в лай.
Тогда он сходит с крыльца, хромая (слышно по грязи: чу-чвяк, чу-чвяк), топает к забору.
Встаю и говорю напрямик: «Алесь Иванович, это я. Твой бывший заведующий».
Молчит. И я молчу. Ну что тут делать: назвался, так надо вылезать. Встаю, перелезаю забор.
Мороз тихо так: «Тут левей держите, а то корыто лежит». Успокаивает собаку и ведет меня в
хату. В хате горит коптилка, окно занавешено, на табуретке – раскрытая книга. Алесь
Иванович пододвигает табурет ближе к печке. «Садитесь. Пальто снимите, пусть сохнет». –
«Ничего, – говорю, – пальто мое еще высохнет». – «Есть хотите? Картошка найдется». – «Не
голодный, ел уже». Отвечаю вроде спокойно, а у самого нервы напряжены – к кому попал? А
он как ни в чем не бывало, спокоен, будто мы с ним вчера только расстались: никаких
вопросов, никакого замешательства. Разве только излишняя озабоченность в голосе. И взгляд
не такой открытый, как прежде. Вижу, небрит, должно быть, дней пять – русая бородка
пробилась.
Сижу мокрый, не снимая армяка, и он наконец присел на лавку. Коптилку поставил на
табурет. «Как живем?» – спрашиваю. – «Известно как. Плохо». – «А что такое?» – «Все то
же. Война». – «Однако, слышал, на тебе-то война не очень отразилась. Все учишь?» Он
кисло, одной стороной лица усмехнулся, уставился вниз на коптилку. «Надо учить». – «А по
каким программам, интересно? По советским или немецким?» – «Ах, вот вы о чем!» –
говорит он и встает. Начинает расхаживать по хате, а я исподтишка внимательно так
наблюдаю за ним. Молчим оба. Потом он остановился, зло глянул на меня и говорит: «Мне
когда-то казалось, что вы умный человек». – «Возможно, и был умным». – «Так не задавайте
глупых вопросов».
Сказал как отрезал – и смолк. И знаешь, стало мне малость не по себе. Почувствовал,
что, наверно, дал маху, сморозил глупость. Действительно, как я мог сомневаться в нем!
Зная, как он тут жил и кем был прежде, как можно было подумать, что он за три месяца
переродился? И знаешь, почувствовал я без слов, без заверений, без божбы, что он наш –
честный, хороший человек.
Но ведь – школа! И с разрешения немецких властей...
«Если вы имеете в виду мое теперешнее учительство, то оставьте ваши сомнения.
Плохому я не научу. А школа необходима. Не будем учить мы – будут оболванивать они. А я
не затем два года очеловечивал этих ребят, чтобы их теперь расчеловечили. Я за них еще