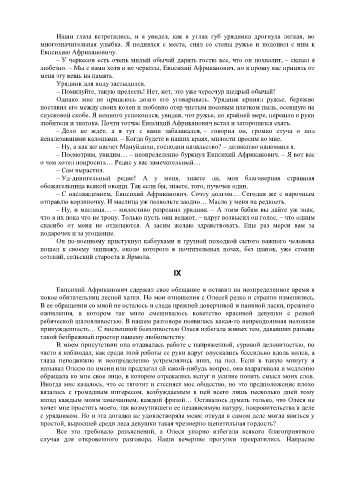Page 24 - Олеся
P. 24
Наши глаза встретились, и я увидел, как в углах губ урядника дрогнула легкая, но
многозначительная улыбка. Я поднялся с места, снял со стены ружье и подошел с ним к
Евпсихию Африкановичу.
– У черкесов есть очень милый обычай дарить гостю все, что он похвалит, – сказал я
любезно. – Мы с вами хотя и не черкесы, Евпсихий Африканович, но я прошу вас принять от
меня эту вещь на память.
Урядник для виду застыдился.
– Помилуйте, такую прелесть! Нет, нет, это уже чересчур щедрый обычай!
Однако мне не пришлось долго его уговаривать. Урядник принял ружье, бережно
поставил его между своих колен и любовно отер чистым носовым платком пыль, осевшую на
спусковой скобе. Я немного успокоился, увидев, что ружье, по крайней мере, перешло в руки
любителя и знатока. Почти тотчас Евпсихий Африканович встал и заторопился ехать.
– Дело не ждет, а я тут с вами забалакался, – говорил он, громко стуча о пол
неналезавшими калошами. – Когда будете в наших краях, милости просим ко мне.
– Ну, а как же насчет Мануйлихи, господин начальство? – деликатно напомнил я.
– Посмотрим, увидим… – неопределенно буркнул Евпсихий Африканович. – Я вот вас
о чем хотел попросить… Редис у вас замечательный…
– Сам вырастил.
– Уд-дивительный редис! А у меня, знаете ли, моя благоверная страшная
обожательница всякой овощи. Так если бы, знаете, того, пучочек один.
– С наслаждением, Евпсихий Африканович. Сочту долгом… Сегодня же с нарочным
отправлю корзиночку. И маслица уж позвольте заодно… Масло у меня на редкость.
– Ну, и маслица… – милостиво разрешил урядник. – А этим бабам вы дайте уж знак,
что я их пока что не трону. Только пусть они ведают, – вдруг возвысил он голос, – что одним
спасибо от меня не отделаются. А засим желаю здравствовать. Еще раз мерси вам за
подарочек и за угощение.
Он по-военному пристукнул каблуками и грузной походкой сытого важного человека
пошел к своему экипажу, около которого в почтительных позах, без шапок, уже стояли
сотский, сельский староста и Ярмола.
IX
Евпсихий Африканович сдержал свое обещание и оставил на неопределенное время в
покое обитательниц лесной хатки. Но мои отношения с Олесей резко и странно изменились.
В ее обращении со мной не осталось и следа прежней доверчивой и наивной ласки, прежнего
оживления, в котором так мило смешивалось кокетство красивой девушки с резвой
ребяческой шаловливостью. В нашем разговоре появилась какая-то непреодолимая неловкая
принужденность… С поспешной боязливостью Олеся избегала живых тем, дававших раньше
такой безбрежный простор нашему любопытству.
В моем присутствии она отдавалась работе с напряженной, суровой деловитостью, но
часто я наблюдал, как среди этой работы ее руки вдруг опускались бессильно вдоль колен, а
глаза неподвижно и неопределенно устремлялись вниз, на пол. Если в такую минуту я
называл Олесю по имени или предлагал ей какой-нибудь вопрос, она вздрагивала и медленно
обращала ко мне свое лицо, в котором отражались испуг и усилие понять смысл моих слов.
Иногда мне казалось, что ее тяготит и стесняет мое общество, но это предположение плохо
вязалось с громадным интересом, возбуждаемым в ней всего лишь несколько дней тому
назад каждым моим замечанием, каждой фразой… Оставалось думать только, что Олеся не
хочет мне простить моего, так возмутившего ее независимую натуру, покровительства в деле
с урядником. Но и эта догадка не удовлетворяла меня: откуда в самом деле могла явиться у
простой, выросшей среди леса девушки такая чрезмерно щепетильная гордость?
Все это требовало разъяснений, а Олеся упорно избегала всякого благоприятного
случая для откровенного разговора. Наши вечерние прогулки прекратились. Напрасно