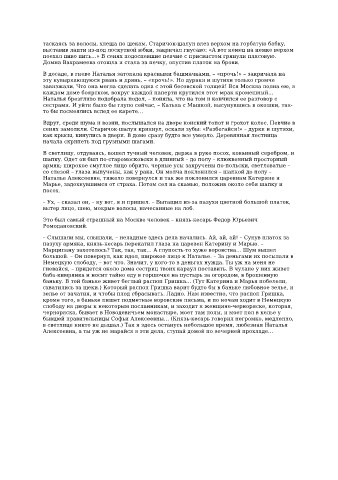Page 348 - Петр Первый
P. 348
таскаясь за волосы, хлеща по щекам. Старичок-шалун влез верхом на горбатую бабку,
выставив лапти из-под лоскутной юбки, закричал гнусаво: «А вот немец на немке верхом
поехал пиво пить…» В сенях подоспевшие певчие с присвистом грянули плясовую.
Домна Вахрамеева отошла и стала за печку, опустив платок на брови.
В досаде, в гневе Наталья затопала красными башмачками, – «прочь!» – закричала на
эту кувыркающуюся рвань и дрянь, – «прочь!». Но дураки и шутихи только громче
завизжали. Что она могла сделать одна с этой бесовской толщей! Вся Москва полна ею, в
каждом доме боярском, вокруг каждой паперти крутился этот мрак кромешный…
Наталья брезгливо подобрала подол, – поняла, что на том и кончился ее разговор с
сестрами. И уйти было бы глупо сейчас, – Катька с Машкой, высунувшись в окошки, так-
то бы посмеялись вслед ее карете…
Вдруг, среди шума и возни, послышался на дворе конский топот и грохот колес. Певчие в
сенях замолкли. Старичок-шалун крикнул, оскаля зубы: «Разбегайся!» – дурки и шутихи,
как крысы, кинулись в двери. В доме сразу будто все умерло. Деревянная лестница
начала скрипеть под грузными шагами.
В светлицу, отдуваясь, вошел тучный человек, держа в руке посох, кованный серебром, и
шапку. Одет он был по-старомосковски в длинный – до полу – клюквенный просторный
армяк; широкое смуглое лицо обрито, черные усы закручены по-польски, светловатые –
со слезой – глаза выпучены, как у рака. Он молча поклонился – шапкой до полу –
Наталье Алексеевне, тяжело повернулся и так же поклонился царевнам Катерине и
Марье, задохнувшимся от страха. Потом сел на скамью, положив около себя шапку и
посох.
– Ух, – сказал он, – ну вот, я и пришел. – Вытащил из-за пазухи цветной большой платок,
вытер лицо, шею, мокрые волосы, начесанные на лоб.
Это был самый страшный на Москве человек – князь-кесарь Федор Юрьевич
Ромодановский.
– Слышали мы, слышали, – неладные здесь дела начались. Ай, ай, ай! – Сунув платок за
пазуху армяка, князь-кесарь перекатил глаза на царевен Катерину и Марью. –
Марципану захотелось? Так, так, так… А глупость-то хуже воровства… Шум вышел
большой. – Он повернул, как идол, широкое лицо к Наталье. – За деньгами их посылали в
Немецкую слободу, – вот что. Значит, у кого-то в деньгах нужда. Ты уж на меня не
гневайся, – придется около дома сестриц твоих караул поставить. В чулане у них живет
баба-кимрянка и носит тайно еду в горшочке на пустырь за огородом, в брошенную
баньку. В той баньке живет беглый распоп Гришка… (Тут Катерина и Марья побелели,
схватились за щеки.) Который распоп Гришка варит будто бы в баньке любовное зелье, и
зелье от зачатия, и чтобы плод сбрасывать. Ладно. Нам известно, что распоп Гришка,
кроме того, в баньке пишет подметные воровские письма, и по ночам ходит в Немецкую
слободу на дворы к некоторым посланникам, и заходит к женщине-черноряске, которая,
черноряска, бывает в Новодевичьем монастыре, моет там полы, и моет пол в келье у
бывшей правительницы Софьи Алексеевны… (Князь-кесарь говорил негромко, медленно,
в светлице никто не дышал.) Так я здесь останусь небольшое время, любезная Наталья
Алексеевна, а ты уж не марайся в эти дела, ступай домой по вечерней прохладе…