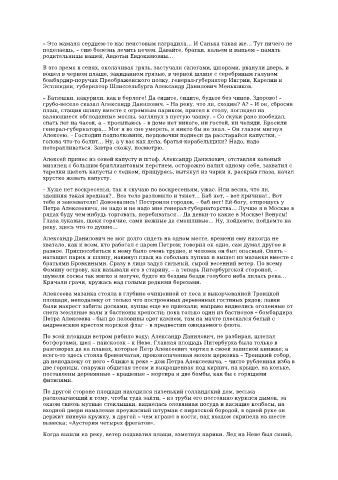Page 353 - Петр Первый
P. 353
– Это маманя сердцем-то нас неистовым наградила… И Санька такая же… Тут ничего не
поделаешь, – сию болезнь лечить нечем. Давайте, братки, нальем и выпьем – память
родительницы нашей, Авдотьи Евдокимовны…
В это время в сенях, околачивая грязь, застучали сапогами, шпорами, рванули дверь, и
вошел в черном плаще, закиданном грязью, в черной шляпе с серебряным галуном
бомбардир-поручик Преображенского полку, генерал-губернатор Ингрии, Карелии и
Эстляндии, губернатор Шлиссельбурга Александр Данилович Меньшиков.
– Батюшки, накурили, как в берлоге! Да сидите, сидите, будьте без чинов. Здорово! –
грубо-весело сказал Александр Данилович. – На реку, что ли, сходим? А? – И он, сбросив
плащ, стащив шляпу вместе с огромным париком, присел к столу, поглядел на
валяющиеся обглоданные мослы, заглянул в пустую чашку. – Со скуки рано пообедал,
спать лег на часок, а – просыпаюсь – в доме нет никого, ни гостей, ни челяди. Бросили
генерал-губернатора… Мог я во сне умереть, и никто бы не знал. – Он глазом мигнул
Алексею. – Господин подполковник, перцовочки поднеси да расстарайся капустки, –
голова что-то болит… Ну, а у вас как дела, братья-корабельщики? Надо, надо
поторапливаться. Завтра схожу, посмотрю.
Алексей принес из сеней капусту и штоф. Александр Данилович, отставляя холеный
мизинец с большим бриллиантовым перстнем, осторожно налил одному себе, захватил с
тарелки щепоть капусты с ледком, прищурясь, вытянул из чарки и, раскрыв глаза, начал
хрустко жевать капусту.
– Хуже нет воскресенья, так я скучаю по воскресеньям, ужас. Или весна, что ли,
здешняя такая вредная?.. Все тело разломило и тянет… Баб нет, – вот причина!.. Вот
тебе и завоеватели! Довоевались! Построили городок, – баб нет! Ей-богу, отпрошусь у
Петра Алексеевича, не надо и не надо мне генерал-губернаторства… Лучше я в Москве в
рядах буду чем-нибудь торговать, перебиваться… Да девки-то какие в Москве! Венусы!
Глаза лукавые, щеки горячие, сами нежные да смешливые… Ну, пойдемте, пойдемте на
реку, здесь что-то душно…
Александр Данилович не мог долго сидеть на одном месте, времени ему никогда не
хватало, как и всем, кто работал с царем Петром; говорил он одно, сам думал другое и
разное. Приспособиться к нему было очень трудно, и человек он был опасный. Опять –
натащил парик и шляпу, накинул плащ на собольих пупках и вышел из мазанки вместе с
братьями Бровкиными. Сразу в лицо задул сильный, сырой весенний ветер. По всему
Фомину острову, как называли его в старину, – а теперь Питербургской стороной, –
шумели сосны так мягко и могуче, будто из бездны бездн голубого неба лилась река…
Кричали грачи, кружась над голыми редкими березами.
Алексеева мазанка стояла в глубине очищенной от леса и выкорчеванной Троицкой
площади, неподалеку от только что построенных деревянных гостиных рядов; лавки
были накрест забиты досками, купцы еще не приехали; направо виднелись оголенные от
снега земляные валы и бастионы крепости; пока только один из бастионов – бомбардира
Петра Алексеева – был до половины одет камнем, там на мачте плескался белый с
андреевским крестом морской флаг – в предвестии ожидаемого флота.
По всей площади ветром рябило воду; Александр Данилович, не разбирая, шлепал
ботфортами, шел – наискосок – к Неве. Главная площадь Питербурха была только в
разговорах да на планах, которые Петр Алексеевич чертил в своей записной книжке; а
всего-то здесь стояла бревенчатая, проконопаченная мохом церковка – Троицкий собор,
да неподалеку от него – ближе к реке – дом Петра Алексеевича, – чисто рубленная изба в
две горницы, снаружи обшитая тесом и выкрашенная под кирпич, на крыше, на коньке,
поставлены деревянные – крашеные – мортира и две бомбы, как бы с горящими
фитилями.
По другой стороне площади находился низенький голландский дом, весьма
располагающий к тому, чтобы туда зайти, – из трубы его постоянно курился дымок, за
окном сквозь мутные стеклышки, виднелась оловянная посуда и висящие колбасы, на
входной двери намалеван преужасный штурман с пиратской бородой, в одной руке он
держит пивную кружку, в другой – чем играют в кости, над входом скрипела на шесте
вывеска: «Аустерия четырех фрегатов».
Когда вышли на реку, ветер подхватил плащи, взметнул парики. Лед на Неве был синий,