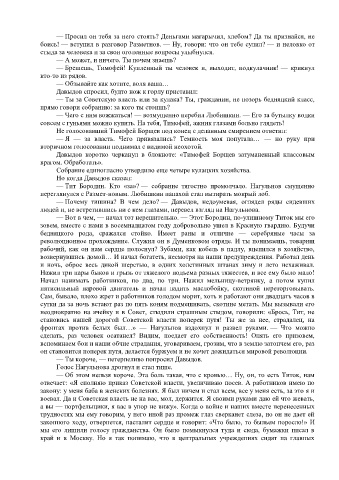Page 16 - Поднятая целина
P. 16
— Просил он тебя за него стоять? Деньгами магарычил, хлебом? Да ты признайся, не
боись! — вступил в разговор Разметнов. — Ну, говори: что он тебе сулил? — и неловко от
стыда за человека и за свои оголенные вопросы улыбнулся.
— А может, и ничего. Ты почем знаешь?
— Брешешь, Тимофей! Купленный ты человек и, выходит, подкулачник! — крикнул
кто-то из рядов.
— Обзывайте как хотите, воля ваша…
Давыдов спросил, будто нож к горлу приставил:
— Ты за Советскую власть или за кулака? Ты, гражданин, не позорь бедняцкий класс,
прямо говори собранию: за кого ты стоишь?
— Чего с ним вожжаться! — возмущенно перебил Любишкин. — Его за бутылку водки
совсем с гуньями можно купить. На тебя, Тимофей, ажник глазами больно глядеть!
Не голосовавший Тимофей Борщев под конец с деланным смирением ответил:
— Я — за власть. Чего привязались? Темность моя попутала… — но руку при
вторичном голосовании поднимал с видимой неохотой.
Давыдов коротко черканул в блокноте: «Тимофей Борщев затуманенный классовым
врагом. Обработать».
Собрание единогласно утвердило еще четыре кулацких хозяйства.
Но когда Давыдов сказал:
— Тит Бородин. Кто «за»? — собрание тягостно промолчало. Нагульнов смущенно
переглянулся с Размет-новым. Любишкин папахой стал вытирать мокрый лоб.
— Почему тишина? В чем дело? — Давыдов, недоумевая, оглядел ряды сидевших
людей и, не встретившись ни с кем глазами, перевел взгляд на Нагульнова.
— Вот в чем, — начал тот нерешительно. — Этот Бородин, по-улишному Титок мы его
зовем, вместе с нами в восемнадцатом году добровольно ушел в Красную гвардию. Будучи
бедняцкого рода, сражался стойко. Имеет раны и отличие — серебряные часы за
революционное прохождение. Служил он в Думенковом отряде. И ты понимаешь, товарищ
рабочий, как он нам сердце полоснул? Зубами, как кобель в падлу, вцепился в хозяйство,
возвернувшись домой… И начал богатеть, несмотря на наши предупреждения. Работал день
и ночь, оброс весь дикой шерстью, в одних холстинных штанах зиму и лето исхаживал.
Нажил три пары быков и грызь от тяжелого подъема разных тяжестев, и все ему было мало!
Начал нанимать работников, по два, по три. Нажил мельницу-ветрянку, а потом купил
пятисильный паровой двигатель и начал ладить маслобойку, скотиной переторговывать.
Сам, бывало, плохо жрет и работников голодом морит, хоть и работают они двадцать часов в
сутки да за ночь встают раз по пять коням подмешивать, скотине метать. Мы вызывали его
неоднократно на ячейку и в Совет, стыдили страшным стыдом, говорили: «Брось, Тит, не
становись нашей дорогой Советской власти поперек путя! Ты же за нее, страдалец, на
фронтах против белых был…» — Нагульнов вздохнул и развел руками. — Что можно
сделать, раз человек осатанел? Видим, поедает его собственность! Опять его призовем,
вспоминаем бои и наши обчие страдания, уговариваем, грозим, что в землю затопчем его, раз
он становится поперек путя, делается буржуем и не хочет дожидаться мировой революции.
— Ты короче, — нетерпеливо попросил Давыдов.
Голос Нагульнова дрогнул и стал тише.
— Об этом нельзя короче. Эта боль такая, что с кровью… Ну, он, то есть Титок, нам
отвечает: «Я сполняю приказ Советской власти, увеличиваю посев. А работников имею по
закону: у меня баба в женских болезнях. Я был ничем и стал всем, все у меня есть, за это я и
воевал. Да и Советская власть не на вас, мол, держится. Я своими руками даю ей что жевать,
а вы — портфельщики, я вас в упор не вижу». Когда о войне и наших вместе перенесенных
трудностях мы ему говорим, у него иной раз промеж глаз сверканет слеза, но он не дает ей
законного ходу, отвернется, насталит сердце и говорит: «Что было, то быльем поросло!» И
мы его лишили голосу гражданства. Он было помыкнулся туда и сюда, бумажки писал в
край и в Москву. Но я так понимаю, что в центральных учреждениях сидят на главных