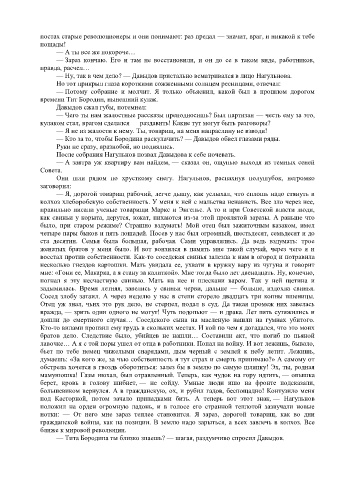Page 17 - Поднятая целина
P. 17
постах старые революционеры и они понимают: раз предал — значит, враг, и никакой к тебе
пощады!
— А ты все же покороче…
— Зараз кончаю. Его и там не восстановили, и он до се в таком виде, работников,
правда, расчел…
— Ну, так в чем дело? — Давыдов пристально всматривался в лицо Нагульнова.
Но тот прикрыл глаза короткими сожженными солнцем ресницами, отвечал:
— Потому собрание и молчит. Я только объяснил, какой был в прошлом дорогом
времени Тит Бородин, нынешний кулак.
Давыдов сжал губы, потемнел:
— Чего ты нам жалостные рассказы преподносишь? Был партизан — честь ему за это,
кулаком стал, врагом сделался — раздавить! Какие тут могут быть разговоры?
— Я не из жалости к нему. Ты, товарищ, на меня напраслину не взводи!
— Кто за то, чтобы Бородина раскулачить? — Давыдов обвел глазами ряды.
Руки не сразу, вразнобой, но поднялись.
После собрания Нагульнов позвал Давыдова к себе ночевать.
— А завтра уж квартиру вам найдем, — сказал он, ощупью выходя из темных сеней
Совета.
Они шли рядом по хрусткому снегу. Нагульнов, распахнув полушубок, негромко
заговорил:
— Я, дорогой товарищ рабочий, легче дышу, как услыхал, что сплошь надо стянуть в
колхоз хлеборобскую собственность. У меня к ней с мальства ненависть. Все зло через нее,
правильно писали ученые товарищи Маркс и Энгельс. А то и при Советской власти люди,
как свиньи у корыта, дерутся, южат, пихаются из-за этой проклятой заразы. А раньше что
было, при старом режиме? Страшно вздумать! Мой отец был зажиточным казаком, имел
четыре пары быков и пять лошадей. Посев у нас был огромный, шестьдесят, семьдесят и до
ста десятин. Семья была большая, рабочая. Сами управлялись. Да ведь вздумать: трое
женатых братов у меня было. И вот вонзился в память мне такой случай, через чего я и
восстал против собственности. Как-то соседская свинья залезла к нам в огород и потравила
несколько гнездов картошки. Мать увидала ее, ухвати в кружку вару из чугуна и говорит
мне: «Гони ее, Макарка, а я стану за калиткой». Мне тогда было лет двенадцать. Ну, конечно,
погнал я эту несчастную свинью. Мать на нее и плескани варом. Так у ней щетина и
задымилась. Время летняя, завелись у свиньи черви, дальше — больше, издохла свинья.
Сосед злобу затаил. А через неделю у нас в степи сгорело двадцать три копны пшеницы.
Отец уж знал, чьих это рук дело, не стерпел, подал в суд. Да такая промеж них завелась
вражда, — зрить один одного не могут! Чуть подопьют — и драка. Лет пять сутяжились и
дошли до смертного случая… Соседского сына на масленую нашли на гумнах убитого.
Кто-то вилами пронзил ему грудь в скольких местах. И кой по чем я догадался, что это моих
братов дело. Следствие было, убийцев не нашли… Составили акт, что погиб по пьяной
лавочке… А я с той поры ушел от отца в работники. Попал на войну. И вот лежишь, бывало,
бьет по тебе немец чижелыми снарядами, дым черный с землей к небу летит. Лежишь,
думаешь: «За кого же, за чью собственность я тут страх и смерть принимаю?» А самому от
обстрела хочется в гвоздь оборотиться: залез бы в землю по самую шляпку! Эх, ты, родная
мамунюшка! Газы нюхал, был отравленный. Теперь, как чудок на гору идтить, — опышка
берет, кровь в голову шибнет, — не сойду. Умные люди ишо на фронте подсказали,
большевиком вернулся. А в гражданскую, ох, и рубил гадов, беспощадно! Контузило меня
под Касторной, потом зачало припадками бить. А теперь вот этот знак, — Нагульнов
положил на орден огромную ладонь, и в голосе его странной теплотой зазвучали новые
нотки: — От него мне зараз теплее становится. Я зараз, дорогой товарищ, как во дни
гражданской войны, как на позиции. В землю надо зарыться, а всех завлечь в колхоз. Все
ближе к мировой революции.
— Тита Бородина ты близко знаешь? — шагая, раздумчиво спросил Давыдов.