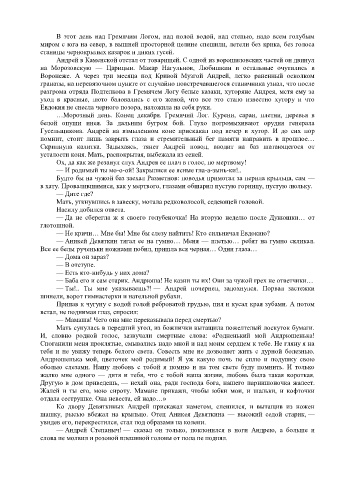Page 19 - Поднятая целина
P. 19
В этот день над Гремячим Логом, над полой водой, над степью, надо всем голубым
миром с юга на север, в вышней просторной целине спешили, летели без крика, без голоса
станицы чернокрылых казарок и диких гусей.
Андрей в Каменской отстал от товарищей. С одной из ворошиловских частей он двинул
на Морозовскую — Царицын. Макар Нагульнов, Любишкин и остальные очутились в
Воронеже. А через три месяца под Кривой Музгой Андрей, легко раненный осколком
гранаты, на перевязочном пункте от случайно повстречавшегося станичника узнал, что после
разгрома отряда Подтелкова в Гремячем Логу белые казаки, хуторяне Андрея, мстя ему за
уход в красные, люто баловались с его женой, что все это стало известно хутору и что
Евдокия не снесла черного позора, наложила на себя руки.
…Морозный день. Конец декабря. Гремячий Лог. Курени, сараи, плетни, деревья в
белой опуши инея. За дальним бугром бой. Глухо погромыхивают орудия генерала
Гусельщикова. Андрей на взмыленном коне прискакал под вечер в хутор. И до сих пор
помнит, стоит лишь закрыть глаза и стремительный бег памяти направить в прошлое…
Скрипнула калитка. Задыхаясь, тянет Андрей повод, вводит на баз шатающегося от
усталости коня. Мать, распокрытая, выбежала из сеней.
Ох, да как же резанул слух Андрея ее плач в голос, по мертвому!
— И родимый ты мо-о-ой! Закрылися ее ясные гла-а-зынь-ки!..
Будто бы на чужой баз заехал Разметнов: поводья примотал за перила крыльца, сам —
в хату. Провалившимися, как у мертвого, глазами обшарил пустую горницу, пустую люльку.
— Дите где?
Мать, уткнувшись в завеску, мотала редковолосой, седеющей головой.
Насилу добился ответа.
— Да не сберегла ж я своего голубеночка! На вторую неделю после Дунюшки… от
глотошной.
— Не кричи… Мне бы! Мне бы слезу найтить! Кто сильничал Евдокию?
— Аникей Девяткин тягал ее на гумно… Меня — плетью… ребят на гумно скликал.
Все ее белы рученьки ножнами побил, пришла вся черная… Одни глаза…
— Дома он зараз?
— В отступе.
— Есть кто-нибудь у них дома?
— Баба его и сам старик. Андрюша! Не казни ты их! Они за чужой грех не ответчики…
— Ты!.. Ты мне указываешь?! — Андрей почернел, задохнулся. Порвал застежки
шинели, ворот гимнастерки и нательной рубахи.
Припав к чугуну с водой голой реброватой грудью, пил и кусал края зубами. А потом
встал, не поднимая глаз, спросил:
— Мамаша! Чего она мне переказывала перед смертью?
Мать сунулась в передний угол, из божнички вытащила пожелтелый лоскуток бумаги.
И, словно родной голос, зазвучали смертные слова: «Родненький мой Андрюшенька!
Споганили меня проклятые, смывались надо мной и над моим сердцем к тебе. Не гляну я на
тебя и не увижу теперь белого света. Совесть мне не дозволяет жить с дурной болезнью.
Андрюшенька мой, цветочек мой родимый! Я уж какую ночь не сплю и подушку свою
оболью слезами. Нашу любовь с тобой я помню и на том свете буду помнить. И только
жалко мне одного — дитя и тебя, что с тобой наша жизня, любовь была такая короткая.
Другую в дом приведешь, — нехай она, ради господа бога, нашего парнишоночка жалеет.
Жалей и ты его, мою сироту. Мамане прикажи, чтобы юбки мои, и шальки, и кофточки
отдала сеструшке. Она невеста, ей надо…»
Ко двору Девяткиных Андрей прискакал наметом, спешился, и вытащив из ножен
шашку, рысью вбежал на крыльцо. Отец Аникея Девяткина — высокий седой старик, —
увидев его, перекрестился, стал под образами на колени.
— Андрей Степаныч! — сказал он только, поклонился в ноги Андрею, а больше и
слова не молвил и розовой плешивой головы от пола не поднял.