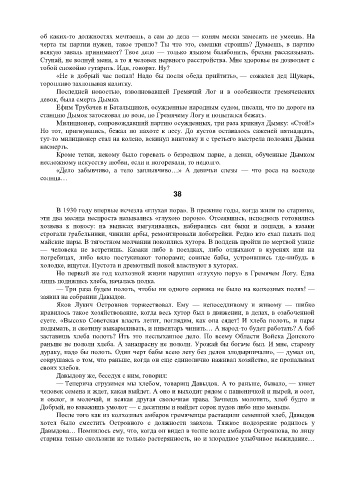Page 172 - Поднятая целина
P. 172
об каких-то должностях мечтаешь, а сам до дела — коням мески замесить не умеешь. На
черта ты партии нужен, такое трепло? Ты что это, смешки строишь? Думаешь, в партию
всякую заваль принимают? Твое дело — только языком балабонить, брехни рассказывать.
Ступай, не волнуй меня, а то я человек нервного расстройства. Мне здоровье не дозволяет с
тобой спокойно гутарить. Иди, говорят. Ну?
«Не в добрый час попал! Надо бы посля обеда прийтить», — сожалел дед Щукарь,
торопливо захлопывая калитку.
Последней новостью, взволновавшей Гремячий Лог и в особенности гремяченских
девок, была смерть Дымка.
Ефим Трубачев и Батальщиков, осужденные народным судом, писали, что по дороге на
станцию Дымок затосковал по воле, по Гремячему Логу и попытался бежать.
Милиционер, сопровождавший партию осужденных, три раза крикнул Дымку: «Стой!»
Но тот, пригнувшись, бежал по пахоте к лесу. До кустов оставалось саженей пятнадцать,
тут-то милиционер стал на колено, вскинул винтовку и с третьего выстрела положил Дымка
насмерть.
Кроме тетки, некому было горевать о безродном парне, а девки, обученные Дымком
несложному искусству любви, если и погоревали, то недолго.
«Дело забывчиво, а тело заплывчиво…» А девичьи слезы — что роса на восходе
солнца…
38
В 1930 году впервые исчезла «глухая пора». В прежние годы, когда жили по старинке,
эти два месяца неспроста назывались «глухою порою». Отсеявшись, исподволь готовились
хозяева к покосу: на выпасах выгуливались, набирались сил быки и лошади, а казаки
строгали грабельники, чинили арбы, ремонтировали лобогрейки. Редко кто ехал пахать под
майские пары. В тягостном молчании покоились хутора. В полдень пройти по мертвой улице
— человека не встретишь. Казаки либо в поездках, либо отдыхают в куренях или на
погребицах, либо вяло постукивают топорами; сонные бабы, устроившись где-нибудь в
холодке, ищутся. Пустота и дремотный покой властвуют в хуторах.
Но первый же год колхозной жизни нарушил «глухую пору» в Гремячем Логу. Едва
лишь поднялись хлеба, началась полка.
— Три раза будем полоть, чтобы ни одного сорняка не было на колхозных полях! —
заявил на собрании Давыдов.
Яков Лукич Островнов торжествовал. Ему — непоседливому и живому — шибко
нравилось такое хозяйствование, когда весь хутор был в движении, в делах, в озабоченной
суете. «Высоко Советская власть летит, поглядим, как она сядет! И хлеба полоть, и пары
подымать, и скотину выкармливать, и инвентарь чинить… А народ-то будет работать? А баб
заставишь хлеба полоть? Ить это неслыханное дело. По всему Области Войска Донского
раньше не пололи хлеба. А занапрасну не пололи. Урожай бы богаче был. И мне, старому
дураку, надо бы полоть. Один черт бабы всею лету без делов злодырничали», — думал он,
сокрушаясь о том, что раньше, когда он еще единолично наживал хозяйство, не пропалывал
своих хлебов.
Давыдову же, беседуя с ним, говорил:
— Теперича сгрузимся мы хлебом, товарищ Давыдов. А то раньше, бывало, — кинет
человек семена и ждет, какая выйдет. А оно и выходит рядом с пашеничкой и пырей, и осот,
и овсюг, и молочай, и всякая другая сволочная трава. Зачнешь молотить, хлеб будто и
Добрый, но взважишь умолот — с десятины и выйдет сорок пудов либо ишо меньше.
После того как из колхозных амбаров гремяченцы растащили семенной хлеб, Давыдов
хотел было сместить Островного с должности завхоза. Тяжкое подозрение родилось у
Давыдова… Помнилось ему, что, когда он видел в толпе возле амбаров Островнова, по лицу
старика тенью скользили не только растерянность, но и злорадное улыбчивое выжидание…