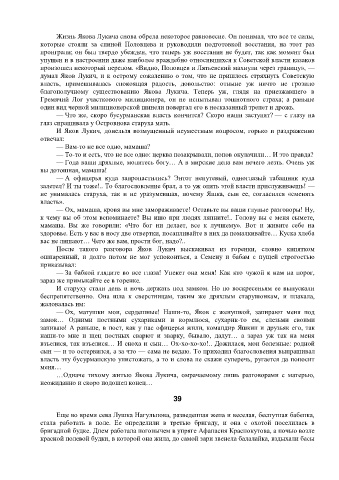Page 174 - Поднятая целина
P. 174
Жизнь Якова Лукича снова обрела некоторое равновесие. Он понимал, что все те силы,
которые стояли за спиной Половцева и руководили подготовкой восстания, на этот раз
проиграли; он был твердо убежден, что теперь уж восстания не будет, так как момент был
упущен и в настроении даже наиболее враждебно относившихся к Советской власти казаков
произошел некоторый перелом. «Видно, Половцев и Лятьевский махнули через границу», —
думал Яков Лукич, и к острому сожалению о том, что не пришлось стряхнуть Советскую
власть, примешивалась спокоящая радость, довольство: отныне уж ничто не грозило
благополучному существованию Якова Лукича. Теперь уж, глядя на приезжавшего в
Гремячий Лог участкового милиционера, он не испытывал тошнотного страха; а раньше
один вид черной милиционерской шинели повергал его в несказанный трепет и дрожь.
— Что же, скоро бусурманская власть кончится? Скоро наши заступят? — с глазу на
глаз спрашивала у Островнова старуха мать.
И Яков Лукич, донельзя возмущенный неуместным вопросом, горько и раздраженно
отвечал:
— Вам-то не все одно, мамаша?
— То-то и есть, что не все одно: церква позакрывали, попов окулачили… И это правда?
— Года ваши дряхлые, молитесь богу… А в мирские дела вам нечего лезть. Очень уж
вы дотошная, мамаша!
— А офицерья куда запропастились? Энтот непутевый, одноглазый табашник куда
залетел? И ты тоже!.. То благословление брал, а то уж опять этой власти прислуживаешь! —
не унималась старуха, так и не уразумевшая, почему Яшка, сын ее, согласился «сменять
власть».
— Ох, мамаша, кровя вы мне замораживаете! Оставьте вы ваши глупые разговоры! Ну,
к чему вы об этом вспоминаете? Вы ишо при людях ляпните!.. Голову вы с меня сымете,
мамаша. Вы же говорили: «Что бог ни делает, все к лучшему». Вот и живите себе на
здоровье. Есть у вас в носу две отвертки, посапливайте в них да помалкивайте… Куска хлеба
вас не лишают… Чего же вам, прости бог, надо?..
После такого разговора Яков Лукич выскакивал из горенки, словно кипятком
ошпаренный, и долго потом не мог успокоиться, а Семену и бабам с пущей строгостью
приказывал:
— За бабкой глядите во все глаза! Упекет она меня! Как кто чужой к нам на порог,
зараз же примыкайте ее в горенке.
И старуху стали день и ночь держать под замком. Но по воскресеньям ее выпускали
беспрепятственно. Она шла к сверстницам, таким же дряхлым старушонкам, и плакала,
жаловалась им:
— Ох, матушки мои, сердешные! Наши-то, Яков с женушкой, запирают меня под
замок… Одними постными сухариками и кормлюся, сухарик-то ем, слезьми своими
запиваю! А раньше, в пост, как у нас офицерья жили, командир Яшкин и друзьяк его, так
наши-то мне и щец постных сварют и зварку, бывало, дадут… а зараз уж так на меня
взъелися, так взъелися… И сноха и сын… Ох-хо-хо-хо!.. Дожилася, мои болезные: родной
сын — и то остервился, а за что — сама не ведаю. То приходил благословения выпрашивал
власть эту бусурманскую унистожать, а то и слова не скажи суперечь, ругается да поносит
меня…
…Одначе тихому житью Якова Лукича, омрачаемому лишь разговорами с матерью,
неожиданно и скоро подошел конец…
39
Еще во время сева Лушка Нагульнова, разведенная жена и веселая, беспутная бабенка,
стала работать в поле. Ее определили в третью бригаду, и она с охотой поселилась в
бригадной будке. Днем работала погонычем в упряге Афанасия Краснокутова, а ночью возле
красной полевой будки, в которой она жила, до самой зари звенела балалайка, вздыхали басы