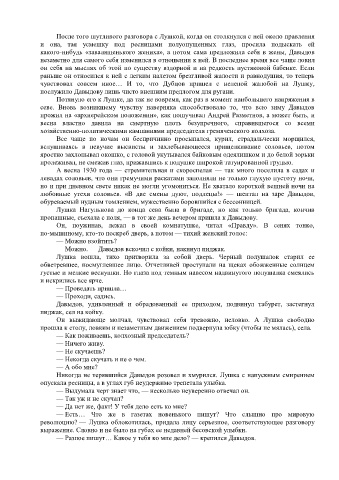Page 176 - Поднятая целина
P. 176
После того шутливого разговора с Лушкой, когда он столкнулся с ней около правления
и она, тая усмешку под ресницами полуопущенных глаз, просила подыскать ей
какого-нибудь «завалященького жениха», а потом сама предложила себя в жены, Давыдов
незаметно для самого себя изменился в отношении к ней. В последнее время все чаще ловил
он себя на мыслях об этой по существу вздорной и на редкость пустяковой бабенке. Если
раньше он относился к ней с легким налетом брезгливой жалости и равнодушия, то теперь
чувствовал совсем иное… И то, что Дубцов пришел с нелепой жалобой на Лушку,
послужило Давыдову лишь чисто внешним предлогом для ругани.
Потянуло его к Лушке, да так не вовремя, как раз в момент наибольшего напряжения в
севе. Вновь возникшему чувству наверняка способствовало то, что всю зиму Давыдов
прожил на «архиерейском положении», как пошучивал Андрей Разметнов, а может быть, и
весна властно давила на смертную плоть безупречного, справившегося со всеми
хозяйственно-политическими кампаниями председателя гремяченского колхоза.
Все чаще по ночам он беспричинно просыпался, курил, страдальчески морщился,
вслушиваясь в певучие высвисты и захлебывающееся прищелкивание соловьев, потом
яростно захлопывал окошко, с головой укутывался байковым одеялишком и до белой зорьки
пролеживал, не смежив глаз, прижавшись к подушке широкой татуированной грудью.
А весна 1930 года — стремительная и скороспелая — так много поселила в садах и
левадах соловьев, что они гремучими раскатами заполняли не только глухую пустоту ночи,
но и при дневном свете никак не могли угомониться. Не хватало короткой вешней ночи на
любовные утехи соловьев. «В две смены дуют, подлецы!» — шептал на заре Давыдов,
обуреваемый нудным томлением, мужественно боровшийся с бессонницей.
Лушка Нагульнова до конца сева была в бригаде, но как только бригада, кончив
пропашные, съехала с поля, — в тот же день вечером пришла к Давыдову.
Он, поужинав, лежал в своей комнатушке, читал «Правду». В сенях тонко,
по-мышиному, кто-то поскреб дверь, а потом — тихий женский голос:
— Можно взойтить?
— Можно. — Давыдов вскочил с койки, накинул пиджак.
Лушка вошла, тихо притворила за собой дверь. Черный полушалок старил ее
обветревшее, посмуглевшее лицо. Отчетливей проступали на щеках обожженные солнцем
густые и мелкие веснушки. Но глаза под темным навесом надвинутого полушалка смеялись
и искрились все ярче.
— Проведать пришла…
— Проходи, садись.
Давыдов, удивленный и обрадованный ее приходом, подвинул табурет, застегнул
пиджак, сел на койку.
Он выжидающе молчал, чувствовал себя тревожно, неловко. А Лушка свободно
прошла к столу, ловким и незаметным движением подвернула юбку (чтобы не мялась), села.
— Как поживаешь, колхозный председатель?
— Ничего живу.
— Не скучаешь?
— Некогда скучать и не о чем.
— А обо мне?
Никогда не терявшийся Давыдов розовел и хмурился. Лушка с напускным смирением
опускала ресницы, а в углах губ неудержимо трепетала улыбка.
— Выдумала черт знает что, — несколько неуверенно отвечал он.
— Так уж и не скучал?
— Да нет же, факт! У тебя дело есть ко мне?
— Есть… Что же в газетах новенького пишут? Что слышно про мировую
революцию? — Лушка облокотилась, придала лицу серьезное, соответствующее разговору
выражение. Словно и не было на губах ее недавней бесовской улыбки.
— Разное пишут… Какое у тебя ко мне дело? — крепился Давыдов.