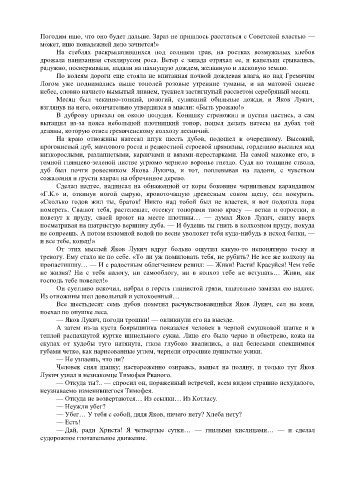Page 180 - Поднятая целина
P. 180
Погодим ишо, что оно будет дальше. Зараз не пришлось расстаться с Советской властью —
может, ишо понадежней дело зачнется!»
На стеблях раскрылатившихся под солнцем трав, на ростках возмужалых хлебов
дрожала нанизанная стеклярусом роса. Ветер с запада отряхал ее, и капельки срывались,
радужно, посверкивали, падали на пахнущую дождем, желанную и ласковую землю.
По колеям дороги еще стояла не впитанная почвой дождевая влага, но над Гремячим
Логом уже поднимались выше тополей розовые утренние туманы, и на матовой синеве
небес, словно начисто вымытый ливнем, тускнел застигнутый рассветом серебряный месяц.
Месяц был чеканно-тонкий, пологий, суливший обильные дожди, и Яков Лукич,
взглянув на него, окончательно утвердился в мысли: «Быть урожаю!»
В дуброву приехал он около полудня. Конишку стреножил и пустил пастись, а сам
вытащил из-за пояса небольшой плотницкий топор, пошел делать натесы на дубах той
деляны, которую отвел гремяченскому колхозу лесничий.
На краю отножины натесал штук шесть дубов, подошел к очередному. Высокий,
прогонистый дуб, мачтового роста и редкостной строевой прямизны, горделиво высился над
низкорослыми, разлапистыми, караичами и вязами-перестарками. На самой маковке его, в
темной глянцево-зеленой листве угрюмо чернело воронье гнездо. Судя по толщине ствола,
дуб был почти ровесником Якова Лукича, и тот, поплевывая на ладони, с чувством
сожаления и грусти взирал на обреченное дерево.
Сделал надтес, надписал на обнаженной от коры боковине чернильным карандашом
«Г.К.» и, откинув ногой сырую, кровоточащую древесным соком щепу, сел покурить.
«Сколько годов жил ты, браток! Никто над тобой был не властен, и вот подошла пора
помереть. Свалют тебя, растелешат, отсекут топорами твою красу — ветки и отростки, и
повезут к пруду, сваей вроют на месте плотины… — думал Яков Лукич, снизу вверх
посматривая на шатристую вершину дуба. — И будешь ты гнить в колхозном пруду, покуда
не сопреешь. А потом взломной водой по весне уволокет тебя куда-нибудь в исход балки, —
и все тебе, конец!»
От этих мыслей Яков Лукич вдруг больно ощутил какую-то непонятную тоску и
тревогу. Ему стало не по себе. «То ли уж помиловать тебя, не рубить? Не все же колхозу на
пропастишшу… — И с радостным облегчением решил: — Живи! Расти! Красуйся! Чем тебе
не жизня? Ни с тебя налогу, ни самооблогу, ни в колхоз тебе не вступать… Живи, как
господь тебе повелел!»
Он суетливо вскочил, набрал в горсть глинистой грязи, тщательно замазал ею надтес.
Из отножины шел довольный и успокоенный…
Все шестьдесят семь дубов пометил расчувствовавшийся Яков Лукич, сел на коня,
поехал по опушке леса.
— Яков Лукич, погоди трошки! — окликнули его на выезде.
А затем из-за куста боярышника показался человек в черной смушковой шапке и в
теплой распахнутой куртке шинельного сукна. Лицо его было черно и обветрено, кожа на
скулах от худобы туго натянута, глаза глубоко ввалились, а над белесыми спекшимися
губами четко, как нарисованные углем, чернели отросшие пушистые усики.
— Не узнаешь, что ли?
Человек снял шапку; настороженно озираясь, вышел на поляну, и только тут Яков
Лукич узнал в незнакомце Тимофея Рваного.
— Откуда ты?.. — спросил он, пораженный встречей, всем видом страшно исхудалого,
неузнаваемо изменившегося Тимофея.
— Откуда не возвертаются… Из ссылки… Из Котласу.
— Неужли убег?
— Убег… У тебя с собой, дядя Яков, ничего нету? Хлеба нету?
— Есть!
— Дай, ради Христа! Я четвертые сутки… — гнилыми кислицами… — и сделал
судорожное глотательное движение.