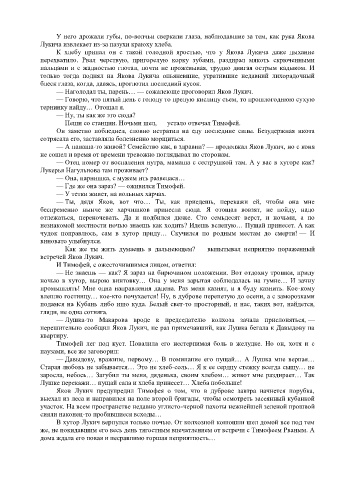Page 181 - Поднятая целина
P. 181
У него дрожали губы, по-волчьи сверкали глаза, наблюдавшие за тем, как рука Якова
Лукича извлекает из-за пазухи краюху хлеба.
К хлебу припал он с такой голодной яростью, что у Якова Лукича даже дыхание
перехватило. Рвал черствую, пригорелую корку зубами, раздирал мякоть скрюченными
пальцами и с жадностью глотал, почти не прожевывая, трудно двигая острым кадыком. И
только тогда поднял на Якова Лукича опьяневшие, утратившие недавний лихорадочный
блеск глаза, когда, давясь, проглотил последний кусок.
— Наголодал ты, парень… — сожалеюще проговорил Яков Лукич.
— Говорю, что пятый день с голоду то прелую кислицу съем, то прошлогоднюю сухую
тернинку найду… Отощал я.
— Ну, ты как же это сюда?
— Пеши со станции. Ночьми шел, — устало отвечал Тимофей.
Он заметно побледнел, словно истратил на еду последние силы. Безудержная икота
сотрясала его, заставляла болезненно морщиться.
— А папаша-то живой? Семейство как, в здравии? — продолжал Яков Лукич, но с коня
не сошел и время от времени тревожно поглядывал по сторонам.
— Отец помер от воспаления нутра, мамаша с сеструшкой там. А у вас в хуторе как?
Лукерья Нагульнова там проживает?
— Она, парнишка, с мужем ить развелася…
— Где же она зараз? — оживился Тимофей.
— У тетки живет, на вольных харчах.
— Ты, дядя Яков, вот что… Ты, как приедешь, перекажи ей, чтобы она мне
беспременно нынче же харчишков принесла сюда. Я отощал вовзят, не пойду, надо
отлежаться, переночевать. Да и подбился дюже. Сто семьдесят верст, и ночьми, а по
незнакомой местности ночью знаешь как ходить? Идешь вслепую… Пущай принесет. А как
чудок поправлюсь, сам в хутор приду… Скучился по родным местам до смерти! — И
виновато улыбнулся.
— Как же ты жить думаешь в дальнеющем? — выпытывал неприятно пораженный
встречей Яков Лукич.
И Тимофей, с ожесточившимся лицом, ответил:
— Не знаешь — как? Я зараз на бирючином положении. Вот отдохну трошки, приду
ночью в хутор, вырою винтовку… Она у меня зарытая соблюдалась на гумне… И зачну
промышлять! Мне одна направления дадена. Раз меня казнят, и я буду казнить. Кое-кому
влеплю гостинцу… кое-кто почухается! Ну, в дуброве перепетую до осени, а с заморозками
подамся на Кубань либо ишо куда. Белый свет-то просторный, и нас, таких вот, найдется,
гляди, не одна сотняга.
— Лушка-то Макарова вроде к председателю колхоза зачала прислоняться, —
нерешительно сообщил Яков Лукич, не раз примечавший, как Лушка бегала к Давыдову на
квартиру.
Тимофей лег под куст. Повалила его нестерпимая боль в желудке. Но он, хотя и с
паузами, все же заговорил:
— Давыдову, вражине, первому… В поминание его пущай… А Лушка мне верная…
Старая любовь не забывается… Это не хлеб-соль… Я к ее сердцу стежку всегда сыщу… не
заросла, небось… Загубил ты меня, дяденька, своим хлебом… живот мне раздирает… Так
Лушке перекажи… пущай сала и хлеба принесет… Хлеба побольше!
Яков Лукич предупредил Тимофея о том, что в дуброве завтра начнется порубка,
выехал из леса и направился на поле второй бригады, чтобы осмотреть засеянный кубанкой
участок. На всем пространстве недавно углисто-черной пахоты нежнейшей зеленой прошвой
сияли наконец-то пробившиеся всходы…
В хутор Лукич вернулся только ночью. От колхозной конюшни шел домой все под тем
же, не покидавшим его весь день тягостным впечатлением от встречи с Тимофеем Рваным. А
дома ждала его новая и несравнимо горшая неприятность…