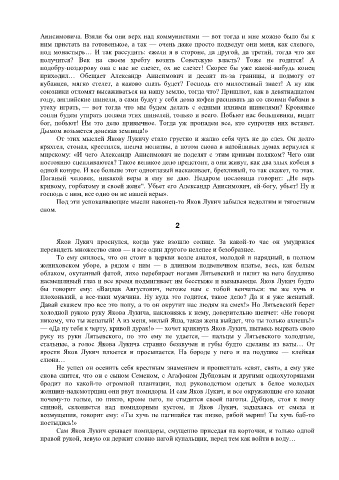Page 186 - Поднятая целина
P. 186
Анисимовича. Взяли бы они верх над коммунистами — вот тогда и мне можно было бы к
ним пристать на готовенькое, а так — очень даже просто подведут они меня, как слепого,
под монастырь… И так рассудить: ежели я в стороне, да другой, да третий, тогда что же
получится? Век на своем хребту возить Советскую власть? Тоже не годится! А
подобру-поздорову она с нас не слезет, ох не слезет! Скорее бы уже какой-нибудь конец
приходил… Обещает Александр Анисимович и десант из-за границы, и подмогу от
кубанцев, мягко стелет, а каково спать будет? Господь его милостивый знает! А ну как
союзники отломят высаживаться на нашу землю, тогда что? Пришлют, как в девятнадцатом
году, английские шинели, а сами будут у себя дома кофеи распивать да со своими бабами в
утеху играть, — вот тогда что мы будем делать с одними ихними шинелями? Кровяные
сопли будем утирать полами этих шинелей, только и всего. Побьют нас большевики, видит
бог, побьют! Им это дело привычное. Тогда уж пропадем все, кто супротив них встанет.
Дымом возьмется донская землица!»
От этих мыслей Якову Лукичу стало грустно и жалко себя чуть не до слез. Он долго
кряхтел, стонал, крестился, шепча молитвы, а потом снова в назойливых думах вернулся к
мирскому: «И чего Александр Анисимович не поделят с этим кривым поляком? Чего они
постоянно сцепливаются? Такое великое дело предстоит, а они живут, как два злых кобеля в
одной конуре. И все больше этот одноглазый наскакивает, брехливый, то так скажет, то этак.
Поганый человек, никакой веры я ему не даю. Недаром пословица говорит: „Не верь
кривому, горбатому и своей жене“. Убьет его Александр Анисимович, ей-богу, убьет! Ну и
господь с ним, все одно он не нашей веры».
Под эти успокаивающие мысли наконец-то Яков Лукич забылся недолгим и тягостным
сном.
2
Яков Лукич проснулся, когда уже взошло солнце. За какой-то час он умудрился
перевидеть множество снов — и все один другого нелепее и безобразнее.
То ему снилось, что он стоит в церкви возле аналоя, молодой и нарядный, в полном
жениховском уборе, а рядом с ним — в длинном подвенечном платье, весь, как белым
облаком, окутанный фатой, лихо перебирает ногами Лятьевский и пялит на него блудливо
насмешливый глаз и все время подмигивает им бесстыже и вызывающе. Яков Лукич будто
бы говорит ему: «Вацлав Августович, негоже нам с тобой венчаться: ты же хучь и
плохонький, а все-таки мужчина. Ну куда это годится, такое дело? Да и я уже женатый.
Давай скажем про все это попу, а то он окрутит нас людям на смех!» Но Лятьевский берет
холодной рукою руку Якова Лукича, наклоняясь к нему, доверительно шепчет: «Не говори
никому, что ты женатый! А из меня, милый Яша, такая жена выйдет, что ты только ахнешь!»
— «Да ну тебя к черту, кривой дурак!» — хочет крикнуть Яков Лукич, пытаясь вырвать свою
руку из руки Лятьевского, но это ему не удается, — пальцы у Лятьевского холодные,
стальные, а голос Якова Лукича странно беззвучен и губы будто сделаны из ваты… От
ярости Яков Лукич плюется и просыпается. На бороде у него и на подушке — клейкая
слюна…
Не успел он осенить себя крестным знамением и прошептать «свят, свят», а ему уже
снова снится, что он с сыном Семеном, с Агафоном Дубцовым и другими однохуторянами
бродит по какой-то огромной плантации, под руководством одетых в белое молодых
женщин-надсмотрщиц они рвут помидоры. И сам Яков Лукич, и все окружающие его казаки
почему-то голые, но никто, кроме него, не стыдится своей наготы. Дубцов, стоя к нему
спиной, склоняется над помидорным кустом, и Яков Лукич, задыхаясь от смеха и
возмущения, говорит ему: «Ты хучь не нагинайся так низко, рябой мерин! Ты хучь баб-то
постыдись!»
Сам Яков Лукич срывает помидоры, смущенно приседая на корточки, и только одной
правой рукой, левую он держит словно нагой купальщик, перед тем как войти в воду…