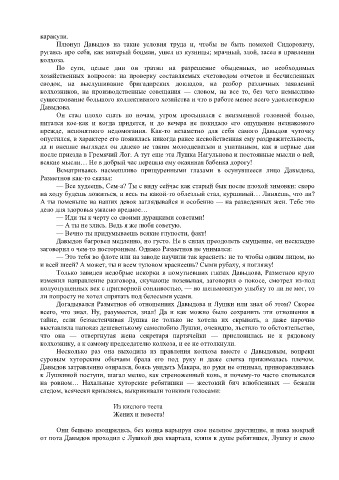Page 191 - Поднятая целина
P. 191
каракули.
Плюнул Давыдов на такие условия труда и, чтобы не быть помехой Сидоровичу,
ругаясь про себя, как матерый боцман, ушел из кузницы; мрачный, злой, засел в правлении
колхоза.
По сути, целые дни он тратил на разрешение обыденных, но необходимых
хозяйственных вопросов: на проверку составляемых счетоводом отчетов и бесчисленных
сводок, на выслушивание бригадирских докладов, на разбор различных заявлений
колхозников, на производственные совещания — словом, на все то, без чего немыслимо
существование большого коллективного хозяйства и что в работе менее всего удовлетворяло
Давыдова.
Он стал плохо спать по ночам, утром просыпался с неизменной головной болью,
питался кое-как и когда придется, и до вечера не покидало его ощущение незнакомого
прежде, непонятного недомогания. Как-то незаметно для себя самого Давыдов чуточку
опустился, в характере его появилась никогда ранее несвойственная ему раздражительность,
да и внешне выглядел он далеко не таким молодцеватым и упитанным, как в первые дни
после приезда в Гремячий Лог. А тут еще эта Лушка Нагульнова и постоянные мысли о ней,
всякие мысли… Не в добрый час перешла ему окаянная бабенка дорогу!
Всматриваясь насмешливо прищуренными глазами в осунувшееся лицо Давыдова,
Разметнов как-то сказал:
— Все худеешь, Сем-а? Ты с виду сейчас как старый бык после плохой зимовки: скоро
на ходу будешь ложиться, и весь ты какой-то облезлый стал, куршивый… Линяешь, что ли?
А ты поменьше на наших девок заглядывайся и особенно — на разведенных жен. Тебе это
дело для здоровья ужасно вредное…
— Иди ты к черту со своими дурацкими советами!
— А ты не злись. Ведь я же любя советую.
— Вечно ты придумываешь всякие глупости, факт!
Давыдов багровел медленно, но густо. Не в силах преодолеть смущение, он нескладно
заговорил о чем-то постороннем. Однако Разметнов не унимался:
— Это тебя во флоте или на заводе научили так краснеть: не то чтобы одним лицом, но
и всей шеей? А может, ты и всем туловом краснеешь? Сыми рубаху, я погляжу!
Только завидев недобрые искорки в помутневших глазах Давыдова, Разметнов круто
изменил направление разговора, скучающе позевывая, заговорил о покосе, смотрел из-под
полуопущенных век с притворной сонливостью, — но шельмоватую улыбку то ли не мог, то
ли попросту не хотел спрятать под белесыми усами.
Догадывался Разметнов об отношениях Давыдова и Лушки или знал об этом? Скорее
всего, что знал. Ну, разумеется, знал! Да и как можно было сохранить эти отношения в
тайне, если беззастенчивая Лушка не только не хотела их скрывать, а даже нарочно
выставляла напоказ дешевенькому самолюбию Лушки, очевидно, льстило то обстоятельство,
что она — отвергнутая жена секретаря партячейки — прислонилась не к рядовому
колхознику, а к самому председателю колхоза, и ее не оттолкнули.
Несколько раз она выходила из правления колхоза вместе с Давыдовым, вопреки
суровым хуторским обычаям брала его под руку и даже слегка прижималась плечом.
Давыдов затравленно озирался, боясь увидеть Макара, но руки не отнимал, приноравливаясь
к Лушкиной поступи, шагал мелко, как стреноженный конь, и почему-то часто спотыкался
на ровном… Нахальные хуторские ребятишки — жестокий бич влюбленных — бежали
следом, всячески кривляясь, выкрикивали тонкими голосами:
Из кислого теста
Жених и невеста!
Они бешено изощрялись, без конца варьируя свое нелепое двустишие, и пока мокрый
от пота Давыдов проходил с Лушкой два квартала, кляня в душе ребятишек, Лушку и свою