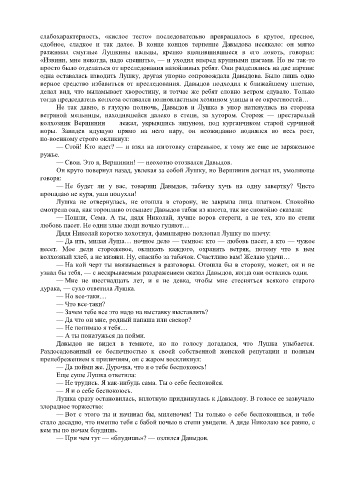Page 192 - Поднятая целина
P. 192
слабохарактерность, «кислое тесто» последовательно превращалось в крутое, пресное,
сдобное, сладкое и так далее. В конце концов терпение Давыдова иссякало: он мягко
разжимал смуглые Лушкины пальцы, крепко вцепившившиеся в его локоть, говорил:
«Извини, мне некогда, надо спешить», — и уходил вперед крупными шагами. Но не так-то
просто было отделаться от преследования назойливых ребят. Они разделялись на две партии:
одна оставалась изводить Лушку, другая упорно сопровождала Давыдова. Было лишь одно
верное средство избавиться от преследования. Давыдов подходил к ближайшему плетню,
делал вид, что выламывает хворостину, и тотчас же ребят словно ветром сдувало. Только
тогда председатель колхоза оставался полновластным хозяином улицы и ее окрестностей…
Не так давно, в глухую полночь, Давыдов и Лушка в упор наткнулись на сторожа
ветряной мельницы, находившейся далеко в степи, за хутором. Сторож — престарелый
колхозник Вершинин — лежал, укрывшись зипуном, под курганчиком старой сурчиной
норы. Завидев идущую прямо на него пару, он неожиданно поднялся во весь рост,
по-военному строго окликнул:
— Стой! Кто идет? — и взял на изготовку старенькое, к тому же еще не заряженное
ружье.
— Свои. Это я, Вершинин! — неохотно отозвался Давыдов.
Он круто повернул назад, увлекая за собой Лушку, но Вершинин догнал их, умоляюще
говоря:
— Не будет ли у вас, товарищ Давыдов, табачку хучь на одну завертку? Чисто
пропадаю не куря, уши попухли!
Лушка не отвернулась, не отошла в сторону, не закрыла лица платком. Спокойно
смотрела она, как торопливо отсыпает Давыдов табак из кисета, так же спокойно сказала:
— Пошли, Сема. А ты, дядя Николай, лучше воров стереги, а не тех, кто по степи
любовь пасет. Не одни злые люди ночью гуляют…
Дядя Николай коротко хохотнул, фамильярно похлопал Лушку по плечу:
— Да ить, милая Луша… ночное дело — темное: кто — любовь пасет, а кто — чужое
несет. Мое дели сторожевое, окликать каждого, охранять ветряк, потому что в нем
колхозный хлеб, а не кизяки. Ну, спасибо за табачок. Счастливо вам! Желаю удачи…
— На кой черт ты ввязываешься в разговоры. Отошла бы в сторону, может, он и не
узнал бы тебя, — с нескрываемым раздражением сказал Давыдов, когда они остались одни.
— Мне не шестнадцать лет, и я не девка, чтобы мне стесняться всякого старого
дурака, — сухо ответила Лушка.
— Но все-таки…
— Что все-таки?
— Зачем тебе все это надо на выставку выставлять?
— Да что он мне, родный папаша или свекор?
— Не понимаю я тебя…
— А ты понатужься да пойми.
Давыдов не видел в темноте, но по голосу догадался, что Лушка улыбается.
Раздосадованный ее беспечностью к своей собственной женской репутации и полным
пренебрежением к приличиям, он с жаром воскликнул:
— Да пойми же. Дурочка, что я о тебе беспокоюсь!
Еще суше Лушка ответила:
— Не трудись. Я как-нибудь сама. Ты о себе беспокойся.
— Я и о себе беспокоюсь.
Лушка сразу остановилась, вплотную придвинулась к Давыдову. В голосе ее зазвучало
злорадное торжество:
— Вот с этого ты и начинал бы, миленочек! Ты только о себе беспокоишься, и тебе
стало досадно, что именно тебя с бабой ночью в степи увидели. А дяде Николаю все равно, с
кем ты по ночам блудишь.
— При чем тут — «блудишь»? — озлился Давыдов.