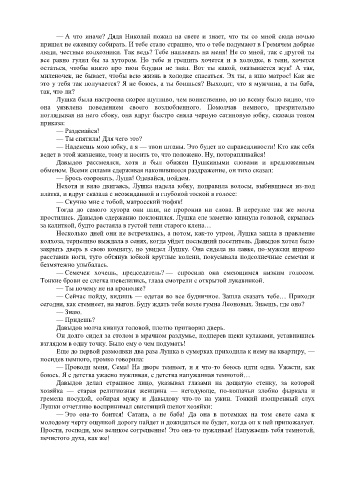Page 193 - Поднятая целина
P. 193
— А что иначе? Дядя Николай пожил на свете и знает, что ты со мной сюда ночью
пришел не ежевику собирать. И тебе стало страшно, что о тебе подумают в Гремячем добрые
люди, честные колхозники. Так ведь? Тебе наплевать на меня! Не со мной, так с другой ты
все равно гулял бы за хутором. Но тебе и грешить хочется и в холодке, в тени, хочется
остаться, чтобы никто про твои блудни не знал. Вот ты какой, оказывается жук! А так,
миленочек, не бывает, чтобы всю жизнь в холодке спасаться. Эх ты, а ишо матрос! Как же
это у тебя так получается? Я не боюсь, а ты боишься? Выходит, что я мужчина, а ты баба,
так, что ли?
Лушка была настроена скорее шутливо, чем воинственно, но по всему было видно, что
она уязвлена поведением своего возлюбленного. Помолчав немного, презрительно
поглядывая на него сбоку, она вдруг быстро сняла черную сатиновую юбку, сказала тоном
приказа:
— Раздевайся!
— Ты спятила! Для чего это?
— Наденешь мою юбку, а я — твои штаны. Это будет по справедливости! Кто как себя
ведет в этой жизненке, тому и носить то, что положено. Ну, поторапливайся!
Давыдов рассмеялся, хотя и был обижен Пушкиными словами и предложенным
обменом. Всеми силами сдерживая накопившееся раздражение, он тихо сказал:
— Брось озоровать, Луша! Одевайся, пойдем.
Нехотя и вяло двигаясь, Лушка надела юбку, поправила волосы, выбившиеся из-под
платка, и вдруг сказала с неожиданной и глубокой тоской в голосе:
— Скучно мне с тобой, матросский тюфяк!
Тогда до самого хутора они шли, не проронив ни слова. В переулке так же молча
простились. Давыдов сдержанно поклонился. Лушка еле заметно кивнула головой, скрылась
за калиткой, будто растаяла в густой тени старого клена…
Несколько дней они не встречались, а потом, как-то утром, Лушка зашла в правление
колхоза, терпеливо выждала в сенях, когда уйдет последний посетитель. Давыдов хотел было
закрыть дверь в свою комнату, но увидел Лушку. Она сидела на лавке, по-мужски широко
расставив ноги, туго обтянув юбкой круглые колени, покусывала подсолнечные семечки и
безмятежно улыбалась.
— Семечек хочешь, председатель? — спросила она смеющимся низким голосом.
Тонкие брови ее слегка шевелились, глаза смотрели с открытой лукавинкой.
— Ты почему не на прополке?
— Сейчас пойду, видишь — одетая во все будничное. Зашла сказать тебе… Приходи
сегодня, как стемнеет, на выгон. Буду ждать тебя возле гумна Леоновых. Знаешь, где оно?
— Знаю.
— Придешь?
Давыдов молча кивнул головой, плотно притворил дверь.
Он долго сидел за столом в мрачном раздумье, подперев щеки кулаками, уставившись
взглядом в одну точку. Было ему о чем подумать!
Еще до первой размолвки два раза Лушка в сумерках приходила к нему на квартиру, —
посидев немного, громко говорила:
— Проводи меня, Сема! На дворе темнеет, и я что-то боюсь идти одна. Ужасти, как
боюсь. Я с детства ужасно пужливая, с детства напужанная темнотой…
Давыдов делал страшное лицо, указывал глазами на дощатую стенку, за которой
хозяйка — старая религиозная женщина — негодующе, по-кошачьи злобно фыркала и
гремела посудой, собирая мужу и Давыдову что-то на ужин. Тонкий изощренный слух
Лушки отчетливо воспринимал свистящий шепот хозяйки:
— Это она-то боится! Сатана, а не баба! Да она в потемках на том свете сама к
молодому черту ощупкой дорогу найдет и дожидаться не будет, когда он к ней припожалует.
Прости, господи, мое великое согрешение! Это она-то пужливая! Напужаешь тебя темнотой,
нечистого духа, как же!